Издание подготовили
Н. Μ. ДЫЛЕВСКИЙ, А. Н. РОБИНСОН
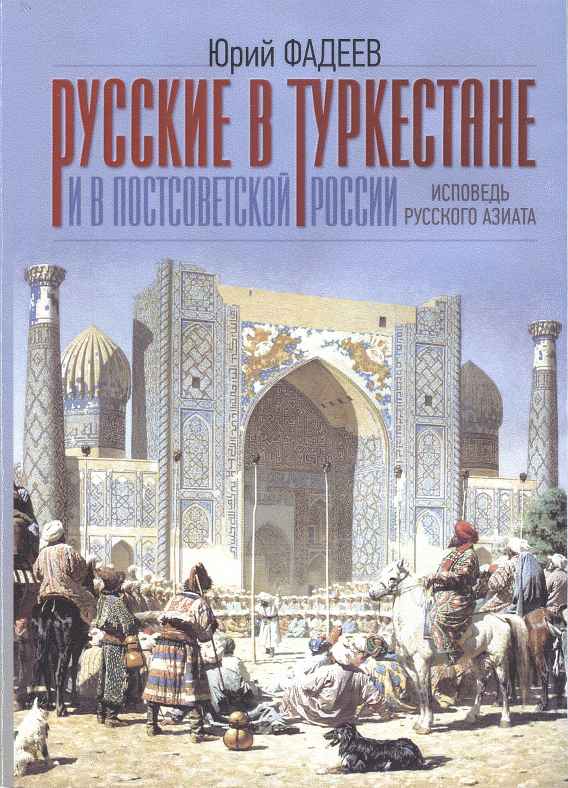
Софроний Врачанский. Автопортрет. Около 1804 г.
Акварель в рукописной книге — автографе. Ленинград, Гос. Публичная библиотека им. Μ. Е. Салтыкова-Щедрина, собр. Μ. П. Погодина, № 1204, л. 5 об. Фотография И. И. Гумницкого.

Софроний Врачанский. Гравюра на дереве засл. худ. В. Захариева, 34 X 24.8 см. София, 1951.

Хилендарский монастырь. Фрагмент гравюры на меди, 26 x 31 см. 1779 г.
Из собр. Н. Μ. Дылевского. София. Фотография Н. Н. Кабзамалова.
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЯ ГРЕШНОГО СОФРОНИЯ
Я, грешный в человеках, родился в селе Котел[1] от отца Владислава и матери Марии[2]. И дали мне попервоначалу имя Стойко[3]. И когда был я трех лет, преставилась мать моя, и отец мой взял другую жену[4], которая была люта и завистлива. И родил с нею дитя мужеского пола, и она только за своим дитятей ходила, а меня все отталкивала. И когда стало мне девять лет, отдали меня в книжное ученье, а перед тем не было мне возможности идти в ученье, потому что по большей части был я болен и немощен. А когда пошел я в ученье, большое прилежание и остроту ума имел и вскоре научился простому чтению[5]. И понеже в Болгарии нет философского учения на славянском языке, начал я учиться греческому языку[6] и усвоил Октоих[7]. А как начал я Псалтырь[8], пришла весть, что преставился отец мой в Царьграде от чумы в лето 1750-е[9]. Остался я без отца и без матери. Тогда был я одиннадцати лет. И тогда взял меня дядя мой по отцу[10] вместо сына, потому что не имел детей, и отдал меня в ученье ремеслу[11]. И когда был я семнадцати лет, преставились и дядя мой и тетка моя[12] вскоре один вслед за другим. И дядя мой в Царьграде умер, ибо оба они (отец и дядя. — Н. Д.) были прасолы[13]. И понудили меня заимодавцы и сотоварищи[14] его пойти в Царьград как сына его собрать деньги с резников[15] по обыкновению прасолов. Но так как резники повсюду рассеяны были по Царьгр аду и на Анатолийской стороне[16], однажды захотели мы с одним из сотоварищей дяди пойти на Анатолийскую сторону. И пошли мы на пристань, чтобы переехать на ладье. Видим у царских палат ладьи[17]. А мы люди простые, и так как были они неподалеку от Ускюдара[18], захотели мы на тех ладьях переехать в Ускюдар. И когда подошли к ним, глядим, на одном месте народу много и двое борцов борются[19]. А наверху были высокие палаты, не знаем — может был и сам царь[20] там. И когда кончили они борьбу, повалил к царским палатам весь тот народ. И мы с ним заодно пошли и стали между царскими воротами и между Ялы Кёшк[21], где были привязаны царские ладьи. И стояли мы там и раздумывали, куда нам пойти; явился тут дворцовый стражник[22] и сказал: «Зачем ходите вы здесь, скорее уходите отсюда, потому что отсекут головы ваши!». А мы извинялись тем, что мы люди пришлые и простые. И как вернулись мы назад, схватили нас янычары[23], что караулили там, и хотели убить нас, потому что они не видели, когда мы прошли с тем народом. И освободившись оттуда, пошли мы на общую пристань и переехали в Ускюдар. А я был тогда юноша молодой и красивый лицом, а тамошние турки содомиты[24], увидав меня, тотчас меня схватили и начали спрашивать у меня подушный лист[25]. И нашли мой подушный лист неисправным. И заперли меня далече в одном саду. И турки, что были там, играли, плясали, смеялись в одной горнице дома близ дороги. А я уразумел, зачем меня засадили туда. Случайно задвижка была изнутри, и тотчас заперся я. И сколько содомитов тех приходили и просили меня отпереть им, подавали мне через окно червонцы. А я, увидав в чем дело, начал кричать. И были напротив еврейские дома[26]. И тотчас пришли некоторые евреи и спрашивали меня: «Почему кричишь?». И я сказал им всю причину. И пошли они к товарищу моему и дали малость денег сборщику налога[27] и освободили меня от тех содомитов.
И собрали мы сколько могли денег и пришли в село живы-здоровы[28]. И сбросив с долга, остался дядя мой должен 400 грошей[29]. И переложили их на меня, чтобы выплачивал их я. А когда пошел я в Царьград, родичи мои расхитили большую часть домашних вещей и припрятали их. И пришли заимодавцы дядины с судьей турецким описать домашние вещи[30], но мало чего нашли. И думали, что я их укрыл, и судья велел бить меня на фаланге[31]. А сельский «князь» —староста[32] не дал меня, так как знал, что я неповинен. И заковали меня в железные цепи и держали взаперти три дня, доколе не собрали еще малое нечто родичи мои. И отпустили меня. И добились отстранения от церкви[33], будто я утаил нечто. И пошел я в Шумен к владыке оправдаться[34]. И едва не убили нас разбойники на пути[35]. Еще прежде чем собрались те заимодавцы взыскать с меня за скотину, принудили меня родичи мои жениться, потому что не было кому смотреть за мною. И я, будучи восемнадцати лет, молод и глуп, не знал, что дядя мой останется должен и что захотят переложить весь его долг на меня. Имел я немного денег и купил дядин дом при жизни его. И, женившись, растратил деньги, имея надежду на ремесло свое. А после, когда судом переложили тот долг на меня, не было у меня гроша сбереженого. И доколе выплатил я тот долг, сколько нужды испытал и бедственное и скорбное житие прожил, сколько укоров претерпел я от жены моей, потому что была она несколько горделива. И надумал я оставить и дом, и жену и пойти вниз по селам[36] на заработки, от всего избавиться. И услышали некоторые из первейших чорбаджиев[37], что я хочу уйти, позвали меня и сказали: «Не ходи никуда, а будь здесь. В эти дни хочет приехать к нам наш владыка[38]. И мы попросим его сделать тебя священником». И на третий день приехал архиерей[39], и они попросили его. И он тотчас изволил рукоположить меня[40] в воскресенье. И дали ему семьдесят грошей[41]. И была дана в среду эта плата, и я готовил к воскресенью потребное. В пятницу вечером пришел эконом[42], принес мои деньги и сказал: «Знай, что владыка не поставит тебя в священники, потому что кто-то другой дал ему сто пятьдесят грошей, и он того хочет рукоположить». Какая скорбь и печаль охватили меня: ведь я исповедался у духовника, взял свидетельство и приготовил все потребное[43]. Но кому поведаю эту скорбь мою? Пошел я к тем людям, что просили владыку и деньги дали. И они пошли и дали еще тридцать грошей. И рукоположили меня в лето 1762-е 1 сентября[44]. И как умел я немного читать, другие священники ненавидели меня, потому что все они в то время были пахари[45]. И по безумной своей молодости не хотел я им покоряться, так как они были простые и неученые. А они клеветали на меня архиерею, и сколько раз запрещал он меня[46], и ненавидел меня. И имел архиерей протосингела грека[47] неученого и бескнижного, он меня весьма ненавидел, ибо это вещь природная: ученый человек любит ученого, и простой — простого, а пьяный — пьяного. И так неспокойно несколько лет проводил я житие мое.
В лето 1768-е началась войсковая баталия турка с московцем[48]. И что скажем: как потянулись те лютые и свирепые агаряне[49] и какого зла только не сделали христианам, чего им на ум не взбрело, того лишь не сделали, сколько людей перебили. А наше село на четырех дорогах[50], и дом мой был весьма далеко от церкви. А по обычаю нашему потребно было мне быть в церкви и на вечерне, и на утрени всякий день[51]. Сколько улиц обходил я, пока дойду до церкви и доколе приду снова домой. Сколько раз меня схватывали и били меня, и голову мне проломили, и хотели убить меня, да бог меня сохранил. После начали проходить паши[52] и принуждали меня писать постойные листы[53], так как писал я быстро. А они не одобряли свои квартиры и приходили назад, сколько раз вынимали свои пистоли убить меня. Однажды один бросил в меня копьем, но не смог попасть в меня. И в конце пришел прехвальный Джезаерли Хасан-паша[54]. Шел он на Рущук[55]. И я, как обычно, раздавал листы на постой. И один схватил меня за бороду[56] и без малого ее не вырвал. И когда разместились все, позвал паша четырех старейшин к себе. И один из них был я. Пришел чауш[57], живший всегда в нашем селе. Был он прислан визирем[58] защищать село от проходящих войск[59]. И дошли мы с ним до ворот паши, и он сказал: «Стойте здесь, а я взойду наверх и узнаю, зачем вас зовет паша!». И когда взошел он наверх, закричал на него паша, и сволокли его вниз, в подземелье. А мы бросились бежать, кто куда мог. А я побежал близ дома паши, и не пришло мне на ум, что паша сидит наверху, на балконе, и может меня увидеть. И увидав меня, крикнул: «Чего ты бежишь? Возьмите его и приведите сюда!». И тотчас схватили меня четверо и привели меня к паше, но с каким страхом! И спросил он: «Зачем бежишь? Кто тебя гонит?» И я ему ответил: «Эфенди[60], мы — райя[61], мы всегда боязливы, как зайцы. И когда схватил ты чауша, мы испугались и побежали». А он сказал: «А вам каков вред от этого? Я вас позвал расспросить про дорогу». Страшный паша был. И пошел он в Рущук и остался там.
В лето 1775-е победил московец турок и перешел Дунай[62], и осадил Шумен, где был визирь Мююсунь-оглу с войском турецким. Осадил и Рущук, и Силистрию, и Варну. Тогда в нашем селе жил арнаутский паша[63], охранял теснину, чтобы не бежало турецкое войско, что у них в обычае. Случились там и кади[64], и чауш, и субаша[65]. Услышав, что осадил московец визиря, побежали все в Сливен[66]. И сколько страху набрались мы, чтобы не попленили нас, убегая. Караулили христиане и днем и ночью. И держали осаду 22 дня. И заключили мир, и ушли московцы, оставили и Турецкую землю, и Валашскую[67].
И после пошел я во Святую Гору[68] и прожил там шесть месяцев. И пришел оттуда и учил детей книжному учению, и хорошо себе жил. Но дьявол, всегда добру завистливый, подвиг на меня архиерея, и вынудили меня стать эпитропом эконома[69]. И повредил я благоговейное житие свое. Начал ходить в угождение ему — по греческому обычаю взыскивать пеню с людей за брак по родству[70] и ради иных вещей. Стал судьей, но более ради денег, и не для себя, а в угоду архиерею. Но бог святый воздал мне справедливо по делам моим. Но об этом после хочу сказать. Не минуло много времени и случилась свара между агами[71] Осман Пазара[72], кому быть аяном[73]. Султан Вербицы[74] определил одного аяна, а вали[75] его не хочет. И позвали Бекир-пашу из Силистрии[76] рассудить их. И когда пришел он, убил султанского аяна. Пошли и мы десять человек из нашего села. И разверстав, обложили село наше десятью кошелями[77]. И посадил паша под стражу троих, из них одним был и я. А других послал за деньгами в село. И дал им три дня сроку принести деньги. Сидели мы там взаперти, прошло три и четыре дня, — не приходят. Услыхали мы, что пошли они в Вербицу жаловаться на пашу султану. Начали мои сотоварищи в темнице плакать горькими слезами: «Ах, бедные мы, отсечет нам паша головы!». Не прошло и часа, пришел человек и сказал: «Иди, поп, зовет тебя паша!». И с каким сердцем пошел я к паше! Молился втайне богу простить мне согрешения мои, ибо отчаялся я в себе. И когда пришел я к паше, сказал он: «Эй, где же ваши люди, что принесут деньги?». А я ему сказал: «Эфенди! Всего три дня, как пошли они, когда ж им собрать столько денег и принести их!». А он мне ответил: «Гяур![78] Ступай скорей и напиши, чтоб не собирали они сейчас с райи, а взяли бы взаймы у кого-либо из купцов, потому что, если не придут они через три дня, и вам отсеку головы, и денег вдвойне возьму с них!». И я написал это и послал человека. Прошло три дня, а они не приходят. И были мы как овцы, обреченные на заклание. На третий день снова позвал паша меня. И как пошел я. крайне в себе отчаялся. И со страху не мог паше ответить на то, что он мне говорил. И когда подошел я к нему, увидел он, что не могу я отвечать, и кротко сказал мне: «Не пришли ли ваши люди?». И я ответил: «Эфенди, вы милосердно еще малость потерпите — они что бы то ни было сегодня вечером придут!». А он не хотел потерпеть и послал тотчас мубашира[79] и взял еще тысячу грошей. И чего не натерпелся я в темнице: был у меня недуг почечуйный, то есть геморрой. И тогда от неподходящей снеди он меня схватил. Хочу пойти на двор, а они меня не пускают, ругают меня. И от страха и недужного угнетения выпали все волосы на голове моей. И вслед за тем не сидел я спокойно, но купил два ветхих дома[80] близ церкви и перестроил их заново, а что было у меня денег, все растратил. И по малом времени разболелся я, но не болезнью, уложившей меня в постель, а охватило меня стеснение сердечное, и не мог я сидеть на одном месте, не сочтя и до десяти. Но ходил я как умалишенный вдоль берегов водных и плакал. Мнилось мне, что хочет выскочить сердце мое из уст моих, в таком душевном стеснении был я. Послал мне бог наказание за безумство мое, что возгордился я ради того мздоимства и взымания пени с неповинных людей. А там докторов не было, но знахарки баяли мне и врачевали меня[81], но безо всякой пользы. Ходил я искать докторов в Сливен и в Ямбол[82], даже и в Царьград[83]. Сколько денег истратил, задолжал немало.
В то время начал турок военную баталию с московцем и с немцем[84]. И зимовал Юсуф-паша визирь[85] в Рущуке, а сын мой пошел в Волощину и купил свиней, но по некой причине понес убытка 1400 грошей[86]. И видя, что задолжал много, пошел в турецкий стан и стал писцом главного поставщика мяса[87]. Спустя некоторое время разболелась и моя попадья, пролежала больной шесть месяцев и преставилась. Одолели нас и другие издержки. С одной стороны — войско шло, стояло постоем, с другой стороны заимодавцы не оставляли меня, требовали свои деньги, хотели засадить в тюрьму. И как выздоровел я немного, ради того баяния запретил меня духовник в служении литургии на три года[88]. А когда минули три года, дал мне духовник позволение, но владыка мне не давал позволения[89], потому что имел взять с моего сына не только долг, а лишь одной платы с сотни за свои деньги 84 гроша. «Дай мне, — сказал, — эти деньги, чтобы я тебе позволение дал служить литургию!». И продержал меня еще три года без литургии. И чего не перетерпел я от попов, сколько они меня поносили и укоряли меня, и не давали мне должной части. А когда давали, говорили мне: «Вот кормим тебя как некоего слепца!». А были они мои ученики. Такие укоризны и посрамление терпел я шесть лет.
Когда был визирский стан в Мачине[90], главный поставщик мяса послал сына моего с одним своим человеком собрать овец в Филиппопольской округе[91]. И собрали они. И тот ага послал сына моего с двадцатью тысячами овец в стан визиря. И оставил сын мой около семисот отборных баранов в селе нашем, чтобы, когда пройдет там его ага, продал бы их. И когда пришел ага, продал их. Взяли их хаджи[92] Власий и Матфей. И дали их одному человеку, чтобы пошел в Андрианополь[93] и продал их в дни курбан-байрама[94] турецкого. И когда дошли они до Фандаклии[95], случилась ссора между овчарами, и убили одного из них. Схватил их тамошний султан и посадил в темницу, а овец тех присвоил. В те дни вышел из Адрианополя главный начальник стражников караулить горные проходы, чтобы не бежали турки из войска. И передал султан тех заключенных начальнику стражников. А мы о том никаких вестей не имели. Однажды пришли в село наше двадцать стражников узнать, кто продал тех овец. А старшины наши сказали: «Эти овцы были проданы в поповом доме, его спросите, кто их продал, и кто их купил, он знает, а мы не знаем!». И позвали меня туда и отдали в руки тем мучителям стражникам. И привели нас троих к начальнику стражников в Сливен. А он собрался охать в Казанлык[96] и передал нас приставу[97]. Поднялись они и пошли тем полем в Коритен[98]. Был месяца июля двадцать третий день. И пора была знойная и горячая, как огонь. А нам связали руки назад и принудили меня пешим идти. Шли мы часа два и от зноя уморились, потому что они были на конях, а мы пешие. Как же возможно было наравне идти! Хаджи Власий, будучи более старым, упал на землю и обмер. Послал пристав просить начальника стражников, потому что он был близко позади нас, посадить нас на коней наших. А он сказал: «Нет ли у него булавы бить их, чтобы шли. А если не могут идти, пусть им отсечет головы и оставит их!». И как услышали мы это, упало в нас сердце, не знали мы, что нам делать. Сговорились и пообещали тому приставу тридцать грошей, ибо турки падки на деньги. И когда отдалились мы немного, посадили нас на коней наших. И дошли мы до села Коритен и там остановились на ночлег. И прошло близ часу, и привели меня к начальнику стражников. И сперва спросили меня: «Кто продал этих овец?». И я сказал: «Ислам-ага[99], а хаджи Власий их купил!». «И сколько продал?». И я сказал: «Семьсот!». «А не продал ли еще?». А я сказал: «Не знаю, только лишь столько знаю!». — «Не знаешь, негодник такой!». И тотчас приказал повалить меня ничком на землю. И сели на меня трое и начали бить меня по босым ногам: сохрани бог от битья стражников немилостивого! Били меня и приговаривали: «Скажи, сколько овец продал!». И я, не смогши больше терпеть, ибо словно перерезало у меня сердце от боли, сказал: «Пустите меня, чтобы я сказал вам!». И оставили меня. «Скажи!» — говорит. «Знаю — сказал, — что продал главному поставщику мяса и двоим гуртовщикам еще овец, но сколько овец и за сколько их продал, не знаю». Тогда закричал он: «Скорее идите и повесьте этого негодника!». И поволокли меня стражники вешать. Я вырываюсь к начальнику стражников, а они меня волокут, разодрали на мне одежду, забыл я и побои, и боль. И тогда заступились некоторые аги, которые были у него, и вымолили меня от повешения. И заковали нас в железные цепи с другими узниками, коих было человек двадцать пять — турок, христиан, цыган. Но больше было албанцев, сбежавших из войска, которое победил московец у Мачина. И хаджи Власия били не меньше. И всякий день сажали на кол[100] из тех албанцев на глазах наших. И приходили стражники к нам и стращали нас, что хотят и нас на кол посадить. И после упросили мы тех аг, и они вымолили нам освобождение спустя пять дней. И платили мы пеню в тысячу пятьсот грошей, и отпустили нас, но овчаров он не отпустил, и сказал: «Когда поеду в Адрианополь, тогда отпущу их!». Но пока собрался он ехать в Адрианополь, пришло ему увольнение. И остались те овчары, наши сельчане, в темнице. А чего натерпелись мы от их жен! Проезжал один паша через село, и те жены пошли и подали жалобу на нас. А мне что делать — вот те другая беда! И я, услыхав это, убежал в лес и сидел там два дня, доколе не уехал паша. И сидели те овчары там взаперти три месяца. И после получил главный поставщик мяса[101] фирман от визиря и освободил овчаров, и овец взял у тамошнего султана. И от пени той взял половину у начальника стражников: 750 грошей. Этот начальник стражников был из Карнобата[102] Сербезоглу именем Мехмет[103]. Как кончилось все это дело, всю ту зиму прожил я в доме моем. А как не давал мне владыка позволения служить литургию — священники укоряли меня всякий день. И как отдали меня старейшины сельские без вины начальнику стражников, а я столько услужил им во всех сельских делах, — столько раз представал перед визирским советом ради помощи селу! Двадцать лет обучал детей их книжному учению, и каждое воскресенье и на каждый праздник говорил поучение. И столько труда подъял я, и столько добра им сделал, и телесного, и душевного, а они напоследок предали меня в руки начальнику стражников, чтобы он убил меня. И отягчился я этим — одно от этого и другое от поповских укоров, что-де кормили меня как слепца, и от этого отягчения встал и пошел я в Анхиалскую епархию[104]. И владыка принял меня с радостью и дал мне приход из двенадцати сел вместе с Карнобатом[105]. Знал я, что там Сербезоглу, что взял пеню с нас, что отобрали у него ее назад по указу. Но я уповал на правду, так как тех овец ни продал, ни купил, а лишь были они проданы и куплены в моем доме. И когда пришел я туда быть там попом, радовались мне христиане очень. И с марта до святой троицы[106] жил я себе мирно. И в тот день пришел фирман быть ему (Сербезоглу.— Н. Д) опять начальником стражников. И тотчас послал он слуг, и схватили меня и посадили в страшную темницу. И держал он меня четыре дня, и не сделал мне никакого вреда, потому что была в те дни в Карнобате ярмарка[107] и был один тамошний султан гостем в доме его. Потому не было ему возможно сделать мне зло. Было нас четверо на одной короткой цепи, и не могли мы лечь никак, и если ложилось из нас двое, другие двое сидели. Приходили ко мне темничцые сторожа, и ругали меня, и говорили: «Как только уедет султан, тотчас набьем тебя поперек на кол, чтоб помнил ты, как брать назад пеню у начальника стражников!». И не пускали приходить к нам никого из христиан. И глядел я, словно вол, как всякий час могут умертвить меня. На пятый день уехал восвояси султан, и лишь только выехал он из ворот, тотчас пришел темничный сторож и спросил меня: «Как твое имя, скажи правду!». И я ему сказал. Хотел получить судебный приговор, чтобы убить меня. Услыхав это, христиане из города и из сел, что пришли на ярмарку, собрались просить за меня. Мужчины поклонились одному любимому султаном человеку, а женщины поклонились матери его. И попросила мать его обречь (дать. — Н. Д.) меня ей, чтобы не повергло в скорбь христиан мое убиение. И с великими мольбами избавили меня от той лютой смерти. И так как заклялся он убить меня, то в тот день посадил на кол вместо меня одного урука[108], который был убийца. А ту пеню, что взяли у него назад, он повторно взял с меня сполна.
А вскоре после этого вновь приключилась со мною другая беда, страшнее и горше первой. Было в моем приходе село по имени Шихлари[109]. И жил там султан именем Ахмет-Герай[110], и имел своей женою ханскую дочерь[111]. Этот султан возжелал взять себе во вторые жены одну христианскую девушку из этого села — дочь некоего Ювана чорбаджи[112], прозываемого Кованджиоглу[113]. А та ханская дочерь не давала ему позволения взять вторую жену[114]. И так держал он ту бедную девушку четыре-пять лет: ни берет ее, ни дает позволения выйти замуж. Однажды позвали меня в Карнобат обвенчать одних. И спросил я, откуда та девушка. И они сказали мне, что это девушка, которую султан хотел взять себе второю женой, но дал позволение сейчас выйти ей замуж. И так привели ее сюда. И я поверил и обвенчал их. А спустя три дня узнал, что преследовал султан и хотел убить отца той девушки, а он убежал, и схватили ее брата, и били его крепко и взыскали с него пеню. И я тогда убоялся и впал в смятение большое. Потом пошел в одно село, называемое Костень[115], там только во всем Карнобатском кадилыке.[116] есть церковь, отслужить литургию в день святых апостолов Петра и Павла[117]. Пришел некий человек именем Милош и позвал меня по одному спешному делу. И встал я после обеда, и отправились мы с тем Милошем в путь. Глядим — в одном месте, немного поодаль от дороги, мужчины и женщины жнут ниву и двое турок возле них на конях. И когда приблизились мы к ним, Милош сказал: «Это здешний султан!». И бросился я поцеловать ему полу[118], а он спросил меня: «Ты этих сел поп?». Я сказал: «Да, я, — ваш раб!». А он сказал мне: «Ты венчал Кованджиеву дочерь в Карнобате?». Я ответил ему: «Я человек чужедальний, пришел сюда недавно и не знаю Кованджиеву дочерь!». А он тотчас поднял ружье свое и ударил меня прикладом два раза по плечам моим, затем навел на меня пистоль, а я, стоя близ него, схватил пистоль. А султан крикнул своему человеку: «Поскорее мне дай веревку повесить этого сводника!». И он пошел и снял с моего коня двурядный недоуздок и набросил на шею мне. И росло там дерево верба. И тотчас влез человек на вербу и потянул меня недоуздком кверху. Но так как руки мои не были связаны, я держал недоуздок и тянул его и молил султана пощадить меня. А он сидел на коне своем и крикнул Милошу с большим гневом и сказал: «Эй, иди сюда и подними этого сводника!». А Милош стал просить его за меня. А он, ударив его прикладом ружейным по лицу, рассек ему челюсть. Тогда султан обернул к вербе лицо свое, направил ружье на своего человека и крикнул ему: «Чего ж ты не тянешь веревку? Вот я сейчас сниму тебя с вербы!». Он тянул кверху, а я книзу, так как руки мои не были связаны. И когда поднял султан глаза свои кверху, Милош, товарищ мой, пустился бежать. И не было кому поднять меня. Тогда султан сказал своему человеку: «Слезай вниз, пойдем в село и там повесим его, чтобы видели его все люди!». И дали мне в руки моего коня вести за узду, а слуга поволок меня с веревкою на шее моей. А султан ехал за мною, ругал меня и говорил мне: «Если я не тебя убью, то кого ж? Будешь помнить, как венчал мою жену с гяуром!». А я молчал, потому что отчаялся в своей жизни. А когда меня вели полем, были трава и бурьян мне по колена, и не мог я идти. Сколько раз падал я, а слуга тянул веревку к себе и чуть было не удавил меня. А султан ехал вслед за мною, ругал меня и взвел курок пистоли за моей спиной, но курок не высек огня, потом снова взвел курок и пистоль выпалила. Но или не попал, или не целил в меня, потому что был пьян. А когда вышли мы на дорогу, сказал султан своему человеку: «Стой!». И мы остановились. Тогда взвел он курок ружья своего, навел его прямо на меня и сказал мне: «Гяур! Сейчас же перейди в веру нашу, потому что тотчас можешь уйти с этого света!». А я что мог сделать? От страха смертного пересохли уста мои, и не мог я вымолвить ни слова, а только сказал ему: «Эфенди, да разве можно веру ружьем давать? А ты хочешь убить попа, верно от людей похвалу хочешь получить?». А он немалое время держал ружье против меня и раздумывал. Наконец сказал мне: «Разведешь ли ты ту молодицу с ее мужем?». И я ответил: «Воистину, лишь только приду в Карнобат, разведу их!». «Клянись!» — сказал мне. А мне что было делать? От страха смертного поклялся я и сказал: «Валлаги биаллаги![119] — разведу их!». Тогда мне помог и его человек и сказал: «Эфенди, зачем ему их разводить, пусть он только отлучит их[120], и она сама убежит от него!». Тогда сказал он своему человеку: «Коли так, отпусти его, пусть идет своим путем!». И я, сев на коня, за четверть часа достиг села Сигмен, что оттуда в двух часах пути[121]. И там одним духом выпил три-четыре чашки крепкой ракии[122]. И когда сел я, охватил меня страх, и начал дрожать я, как в лихорадке. А не прошло и часа, подоспел туда и Милош и, увидав меня, удивился и пришел в ужас. И схватившись за израненное лицо свое, сказал: «Ох, отче мой, неужто ты жив? Я, убегая, все глядел издалеча на вербу — не висишь ли ты повешенный? Но тебя не было. А как грянул выстрел, я сказал себе: — Вот ушел с этого света бедняга поп Стойко!». Вот какие беды и страхи смертные пронеслись над моей головой. Вот как пострадал я за чужие грехи! И прожив там год, пошел я в Карабунар[123], провел и там год, и мирно провел. И когда ушел я оттуда, плакали христиане при разлучении со мною, хотели, чтобы пробыл я там и второй год. Но не было мне возможно остаться, потому что ушли дети наши из Котела[124] и пошли жить в Арбанаси[125], и потому имел я нужду пойти к ним.
И встал я и пошел в Арбанаси тринадцатого дня марта, и жил там до июля в праздности, в одном монастыре жил около двух месяцев[126]. И в те дни приехал врачанский епископ кир Серафим больной[127] и через малое время преставился ко господу. И прошло несколько дней, и пошел я к протосингелу[128] тырновскому киру Григорию попросить его о некоторых монастырских нуждах. А он сказал мне: «Ты оставь монастырь, потому что мы хотим поставить тебя врачанским епископом!»[129]. А я отрекался как недостойный такого сана. Первое — стар я годами, был я 54 лет. А другое: слышу я, что эта епархия разбросана по многим малым селам и потребно немалое служение[130]. А он говорил — непременно хотим поставить тебя епископом! И в этих разговорах протекло дней пятнадцать. На самый день воздвижения честного креста[131] пришел в дом наш архидиакон[132] кир Феодосий и сказал мне: «Вот, отче, прошло столько дней, как приглашает тебя владыка стать архиереем, а ты не хочешь. А сейчас послал меня господин митрополит (было имя ему Матфей), у него там и четыре епископа его с их советниками, и все тебя находят достойным быть врачанским епископом[133]. А ты подумай и дай ответ — хочешь или не хочешь быть епископом, потому что я для этого пришел!». «Слушай, — говорит, — отче! Мы ходим в слугах по двадцати лет и не можем удостоиться принять архиерейство. А другие посулы дают и молителей посылают, а к тебе пришел дар этот без хождения в слугах, без посулов и без молителей». А как я размышлял, какой ответ дать мне, начали дети мне говорить: «Почему, отче, не хочешь ты согласиться, когда тебя просят, чтобы иметь и нам отца архиерея!». И я склонился на их уговоры и пообещался. И архидиакон поцеловал мне руку и ушел восвояси. После позвали меня в митрополию, где были и епископы, и я поцеловал им руку. Был день четверг. И велел мне митрополит быть готовым: «В воскресенье рукоположим тебя в архиереи!». Но вот как случилось: рукоположили меня во священника в лето 1762-е, месяца сентября в 1-й день, в воскресенье. А в архиереи рукоположили меня в лето 1794-е снова в месяце сентябре в 17-й день, в воскресенье. И в те одежды, в которые был облачен тогдашний архиерей кир Гедеон[134] в Котеле, облачили меня, когда хиротонисали[135] в архиерея. И как стал я архиереем, в тот день великая радость была в митрополии, а в доме нашем трапеза и угощение великое. После того жил я в Арбанаси три месяца, доколе приготовился и доколе пришли берат и указ из Царьграда[136]. И поднялся я пойти в епархию мою декабря в 13-й день. Но была лютая стужа и снег. Имел я намерение прийти в епископию мою на рождество Христово. И когда пришел я в Плевен[137], подивились христиане, как дерзнул я в такую пору во Врацу пойти.
