




Воробьиное озеро
Давным-давно слыхивал я рассказы про Воробьиное озеро.
Говорили, что там ловятся огромные лещи, которые не влезают в таз, окуни, которые не влезают в ведро, чудовищные щуки, которые вообще ни во что не влезают.
Удивительно было, что щуки да окуни такие огромные, а озеро — Воробьиное.
— Ты уж сходи на Воробьиное-то озеро. Найдёшь его там, в лесах.
Я искал и добрался однажды до Воробьиного озера. Не слишком большое, но и не маленькое, лежало оно среди еловых лесов, а прямо посередине рассекали его воды три острова. Острова эти были похожи на узконосые корабли, которые плывут друг за другом, а парусами у кораблей — берёзы.
Не было никакой лодки, и я не смог добраться до островов, стал ловить рыбу.
Повидал и щуку, и чёрного окуня, и золотого леща. Правда, все они были не слишком велики, уместились в одном ведре, ещё и место осталось.
На это самое место положил я луковицу, начистил картошки, кинул перцу-горошку, долил воды и подвесил ведро над костром.
Пока закипала уха, я смотрел на острова-корабли, на их берёзовые паруса.
Иволги летали над зелёными парусами, которые бились под ветром и трепетали, а не могли сдвинуть с места свои корабли. И мне понравилось, что есть на свете такие корабли, которые нельзя сдвинуть с места.

Хрюкалка
Поздним весенним вечером, когда солнце спрячется за верхушки деревьев, неведомо откуда появляется над лесом странная длинноклювая птица. Летит низко над прозрачным ольшаником и внимательно оглядывает все просеки и поляны, будто ищет чего-то.
— Хорх… хорх… — доносится сверху хриплый голос — Хорх…
Раньше в деревнях говорили, что это не птица вовсе, а вроде бы чертёнок летает над лесом, разыскивает свои рожки, которые потерял.
Но это, конечно, не чертёнок. Это летает над лесом вальдшнеп, ищет себе невесту.
У вальдшнепа вечерние глаза — большие и тёмные. За хриплый голос вальдшнепа иногда называют «хрюкалка», а за длинный клюв — «слонка».
В одной деревне, слышал я, зовут его ласково «валишень». Такое название мне нравится больше всего.
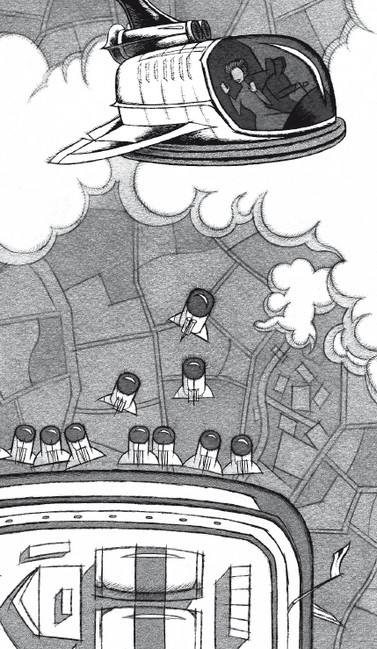

Дик и черника
С нами в избушке живёт пёс, которого звать Дик. Он любит смотреть, как я курю. Сядет напротив и глядит, как изо рта у меня дым валит.
Дик — добрый пёс, но обжора. Набить живот рыбьей требухой и закопать голову под ёлку, чтоб не кусали комары, — вот чего ему надо!
Раз на болоте я нашёл черничную поляну. Никак не мог оторваться от черники, собирал и ел пригоршню за пригоршней.
Дик забегал то с одного боку, то с другого, заглядывал мне в рот, не понимая, что это я ем.
— Да черника это, Дик! — объяснял я. — Смотри, как её много.
Я набрал пригоршню, протянул ему. Он мигом убрал ягоды с ладони.
— Теперь сам валяй, — сказал я.
Но Дик не понимал, откуда берутся ягоды, бегал вокруг, толкал в бок носом, чтоб я не забывал про него.
Тогда я решил немного поучить Дика уму-разуму. Стыдно рассказать, но я встал на четвереньки, подмигнул ему и стал есть ягоды прямо с куста. Дик подпрыгнул от восхищения, раскрыл пасть — и только кустики затрещали.
Через два дня Дик собрал чернику вокруг избушки, и я радовался, что не научил его любить смородину и морошку.

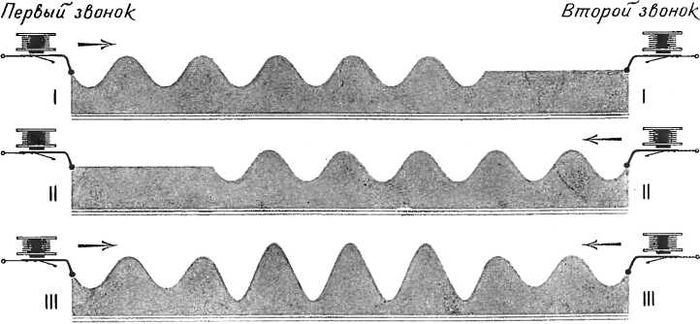
Звёздный язь
Ранней весной пошли мы с Витей на рыбалку, на Мост.
Не так уж далеко от нас Мост, а всё-таки шесть километров. Шли, шли, месили болотную да лесную весеннюю грязь, устали. На Мост пришли — сразу костёр положили, чай стали кипятить. Витя говорит:
— Не знаю, как ты, а я всю жизнь мечтаю большого язя поймать.
— Какого большого? Каких размеров?
— Не меньше сапога.
— Какого сапога? Обычного или бродня?
— Бродня.
— Ну, это ты, парень, слишком. Язь величиной с болотный бродень! Таких не бывает. Давай уж будем ловить язя с обычный, привычный кирзовый сапог.
Договорились мы и связали на язя секретную донку. В чём секрет этой донки, рассказать не могу — Витя не велит.
И вот насадили мы на большой крючок с десяток червей и метнули всё это в воду.
А язь не берёт. Мелкая сорожонка червей теребит. Колокольчик на донке звякает.
— Замучила сорожонка, — Витя говорит, — одолела. Сорожонка — это мелкая плотва. У нас на Севере плотву сорогой зовут.
К вечеру худо-бедно наловили мы сорожонки, а язь-то никак не берёт.
И вот настала ночь.
Над Цыпиной горой под звёздами потянули на север гуси и журавли, зацвиркали-зазоркали вальдшнепы, и тут взял язь.
Страшно натянулась леска, задрожал Витя, ухватил леску двумя руками, потянул к берегу.
А вдали, в темноте у камышей, заплескался вышедший на поверхность язь. Серебряные блики посыпались по воде от ударов его хвоста и звёздные полетели брызги.
И вот Витя подвёл язя к берегу и почти уж вытащил его, как вдруг язь дёрнул. Витя поскользнулся и упал в воду рядом с язем.

И вот они оба барахтаются в чёрной воде, и от них обоих летят звёздные брызги. И я понял, что язь сейчас уйдёт, если я чего-нибудь не придумаю.
И я придумал. Я тоже упал в воду с другой стороны язя. И вот мы уже вдвоём лежим в воде и между нами язь.
А над нами, между прочим, сияют и стоят все ночные созвездия, все главные весенние звёзды, и особенно ясно, я вижу, стоят над нами Лев и Близнецы. И вот уже мне кажется, что это мы с Витей близнецы, а между нами — лев. Всё как-то спуталось в моей голове.
И всё-таки мы вытащили язя, выволокли его на берег, и он оказался очень большим. По сапогу мерить было некогда — ночь, а в ведро он никак не влезал.
Поставили мы его в ведро вниз головой и по болотной да лесной весенней грязи побежали домой, на Цыпину гору. Язь бил в ведре хвостом, и в каждой чешуинке его играли главные весенние созвездия — Лев и Близнецы.
Мы надеялись, что язь не заснёт до утра, но он заснул.
Я очень огорчился, что заснул звёздный язь и не осталось на земле его следа. Взял доску, положил на неё язя и точно по контуру обвёл карандашом. И потом долго сидел — вырезал звёздного язя. Пускай хоть на моей доске останется его след.
А того язя, что вы видите на рисунке, мы поймали в другой раз. Это не язь, а язёнок. Но он тоже почему-то звёздный. Не знаю уж почему. Мы поймали его утром, когда звёзды скрылись под солнечной пеленой… Наверно, всякий язь — звёздный…
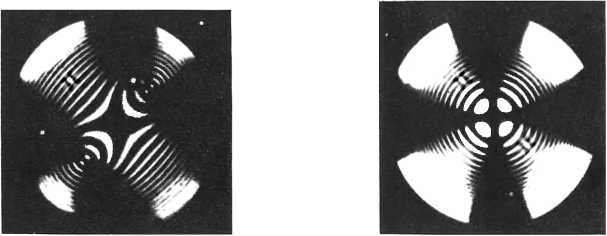
Чага
Над речкой, над омутом, в котором прячется от коршуна диковинная северная рыба хариус, стоит берёза.
Ствол у берёзы кривой, он то сгибается к речке, то оттягивает его от воды тайга, и на самом крутом его колене лопнула кора.
На этом месте много лет вырастал чёрный берёзовый гриб — чага.
Я срубил чагу топором.
Огромная, с бычью голову, она еле залезла в рюкзак.
Несколько дней сушил я чагу на солнце, а когда гриб высох, накрошил ножом чёрно-оранжевой сердцевины, положил в котелок, заварил крутым кипятком.
Чай кончился, и я пил чагу. Она горьковата, как чай, пахнет пригорелым грибом и далёким весенним берёзовым соком.
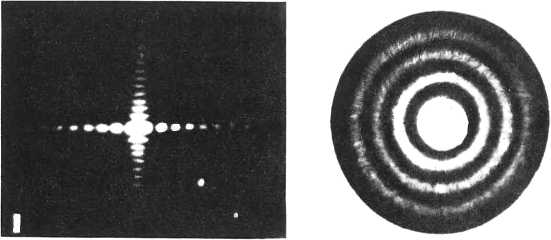
Цвет у неё густой, кофейный, цвет омута, в котором прячется от коршуна и от наших глаз северная рыба хариус.
Соседство
Тому, кто боится змей, этот рассказ читать не надо. А мне вообще-то не надо его писать.
Я змей не боюсь, но опасаюсь самым серьёзным образом. В тех местах, где много гадюк, всегда хожу в резиновых сапогах и нарочно сильно топаю, чтоб змеи знали — я иду.
«Опять этот тип топает, — думают, наверно, гадюки. — Того гляди, наступит. Надо уходить».
За нашим домом в камнях живёт семейство гадюк. В тёплые солнечные дни они выползают погреться на камушках. Много лет живём мы рядом, и пока что — тьфу, тьфу, тьфу — не было случая, чтоб мы поссорились.
Как-то раз Витя задумал сфотографировать змею. Установил в камнях треногу, стал подкарауливать.
Скоро выползла гадюка, и Витя защёлкал. Я пошёл поглядеть, как он снимает.
Свернувшись, гадюка лежала в камнях, лениво поглядывая на фотографа, а сзади него, у самых пяток, лежала вторая. Эту вторую Витя не замечал и каждую секунду мог на неё наступить. Я хотел уж крикнуть, как вдруг увидел и третью, подползающую к треноге сбоку.
Ты окружён, — сказал я фотографу. — Кончай съёмку.
Сейчас, сделаю ещё дублик. Вот выйдет солнце из-за тучки.
Солнце вышло, наконец, из-за тучки, Витя сделал дублик и осторожно, лавируя между гадюками, вынес свою треногу.
— Тьфу, тьфу, тьфу, — сказал я, — обошлось. А был ещё с гадюками такой случай.
У нас в деревне есть старый дом, сильно заброшенный. Хозяин этого дома приезжает редко, всю зиму стоит дом пустой.
И вот однажды весной приехали в этот дом две девушки-художницы. Они хотели пожить в деревне, порисовать.
Зашли они в дом и первым делом решили печку затопить.
Открыли печную дверцу, а оттуда вдруг выползли две здоровенные гадюки.
Вот уж крику-то было!

Тузик
В деревне Василёво все собаки — Тузики, все коровы — Зорьки, а уж всё тётушки — тёти Мани.
Заходишь в деревню, а тебя встречает первый Тузик — Тузик встречающий. Он весёлый, добрый. Трётся о твою ногу ласково, дескать — заходи, заходи. Дашь ему какую-нибудь корочку, и он так подпрыгивает от радости, будто ты ему целый торт отвалил.
Идёшь по деревне, а из-за заборов новые Тузики глядят, насчёт корочки размышляют, а Зорьки в сараях мычат, а тёти Мани все на лавочках сидят, сирень нюхают.
Подойдёшь к какой-нибудь тёте Мане, скажешь:
— Тётя Маня, налила бы молочка, что ли!
Пройдёшь через всю деревню — там молочка попьёшь, там редиску попробуешь, сирени наломаешь. А за околицу тебя последний Тузик провожает. И долго смотрит тебе вслед и громко прощально лает, чтоб не забывал ты деревню Василёво.
А вот в деревне Плутково все собаки — Дозорки, все коровы — Дочки, а уж все тётушки — всё равно тёти Мани. Там ещё мой друг сердечный Лёва Лебедев живёт.


Морошка
Под ногами мох — мягкий мохнатый мех.
Солнечные ягоды, оранжевые и жёлтые, рассыпались по моховой поляне. Морошка.
Жёлтые — спелые, оранжевые — вот-вот созреют.
Ягода морошки немного похожа на белую малину. Кажется, это маленькие малинки растут среди мха.
Но морошка не такая сладкая и душистая, как малина.
А всё-таки морошку на малину я не променяю. Северный, таёжный у неё вкус, и сравнить его не с чем — разве со вкусом росы.
Морошка вобрала в себя всю свежесть сырого леса, всю сладость мохового болота — и свежести оказалось много, а сладости чуть-чуть.
Но кому сколько надо — одни пьют чай вприкуску, другие внакладку.
Когда устанешь под мешком после долгого пути, когда в горле у тебя пересохло — морошка кажется мёдом. Моховым и прохладным болотным мёдом.


Фарфоровые колокольчики
Кому какой, а уж мне больше всего фарфоровый нравится колокольчик.
Он растёт в глубине леса, в тени, и цвет у него странный — малосолнечный. Не водянистый, но — прозрачный, фарфоровый. Цветы его невесомы, и трогать их нельзя. Только смотреть и слушать.
Фарфоровые колокольчики звенят, но шум леса всегда их заглушает.
Ёлки гудят, скрипят сосновые иголки, трепещет осиновая листва — где уж тут услышать лёгкий звон фарфорового колокольчика?
Но всё-таки я ложусь на траву и слушаю. И долго лежу, и уходит в сторону еловый гул и трепет осины — и далёкий, скромный слышится колокольчик.
Возможно, это не так, возможно, я всё это придумываю, и не звенят в наших лесах фарфоровые колокольчики. А вы послушайте. Мне кажется — звенят!


Пантелеевы лепёшки
Прошлую ночь ночевали мы у деда Пантелея. Давно, лет пятьдесят назад, срубил он в тайге дом и живёт в нём один.
Добрались мы до Пантелея поздно ночью. Он обрадовался гостям, поставил самовар.
Долго мы сидели за столом, разговаривали, пели песни.
Пантелей больше молчал и всё вглядывался, какие они, городские-то люди. Чудны'ми казались ему наши разговоры и песни, привезённые из города.
Одна песня понравилась ему: «На улице дождь, дождь…»
Утром мы встали пораньше, затемно, а дед уже поднялся. Я заглянул к нему за перегородку. Там на столе горела свеча, и при свете её дедушка Пантелей месил тесто. Видно, собрался печь хлеб.
Взошло солнце. Мы стали собираться в дорогу и на прощанье решили сфотографировать Пантелея.
Вы, дедушка, снимите шапку — чего в шапке фотографироваться?
Зачем её снимать? Она ведь голову греет.
— Ну ладно, тогда возьмите в руки сеть, будто вы её чините. Шапку Пантелей снимать не стал, а сеть взял в руки, покачивая головой и улыбаясь затеям городского человека.
Потом он сходил в дом и вынес что-то завёрнутое в тряпицу. Свёрток был горячий. Я развернул его и увидел тонкие лепёшки из ржаной муки.
Возьми, — сказал Пантелей, — на дорогу.
Когда мы перевалили гору Чувал и остановились передохнуть, я достал из мешка Пантелеевы лепёшки. Они высохли и покрошились.
Мы стали есть их, размачивая в ручье.
Ни соли, ни сладости не было в Пантелеевых лепёшках. Они были пресными, как вода.
Я удивлялся: что за странные лепёшки, почему в них нет вкуса?
Потом понял, что вкус есть, только уж очень простой. Такие лепёшки может, наверно, испечь только одинокий старик, живущий в тайге.

Чибис
Над сырым заливным полем, в том месте, где особенно много весенних луж, весь день с криком летают чибисы.
Они яростно машут широкими крыльями, ныряют в воздухе вправо, влево, кувыркаются. Кажется, что сильный ветер мешает им лететь.
Но нет в поле ветра. Светит солнце, отражается в гладких сверкающих лужах.
У чибиса необыкновенный полёт, игривый. Чибис играет, плещется в воздухе, как плещутся ребята в реке.
Когда чибис садится на землю, сразу и не поверишь, что это та самая птица, которая только что кувыркалась над лужами, валяла дурака. Сидящий чибис строг и красив, и совсем неожиданным кажется легкомысленный хохолок у него на голове.
Раз я видел, как чибисы гоняли пустельгу.
Пустельга неосторожно приблизилась к их гнезду и попала в переплёт. Один чибис всё время кувыркался перед её носом и мешал лететь, а второй налетал сверху и лупил по чему придётся.
Прогнавши хищника, чибисы опустились на землю и пошли пешком по лужам, помахивая своими гордыми хохолками.

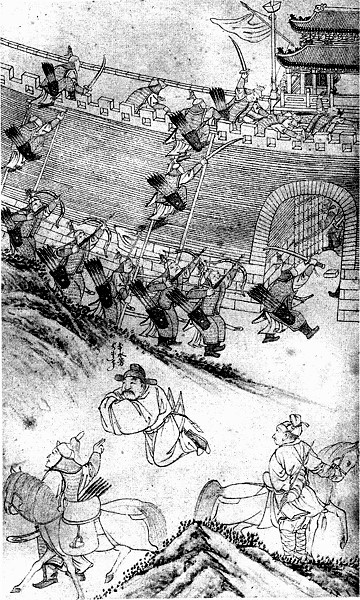
Зимняк
Пастух Володя подстрелил птицу и принёс её мне.
Вот, — сказал он, — погляди, чего я подстрелил. Птица была живая. Дробь перебила ей крыло.
Седая с золотыми глазами птица злобно глядела на меня, клацала клювом и шипела.
— Нечего на меня шипеть, — сказал я. — Не я тебя подстрелил, а вот этот болван. Зачем ты её подбил-то? — спросил я Володю. — Взбесился, что ли?
— Она летит, я и думаю: дай вдарю.
— Тебе бы вдарить. В глаз.
Пастух Володя обиделся. Прищурил глаз, которым целился, отошёл в угол избы и на корточки присел.
Седая птица с золотыми злыми глазами сидела на столе. Как только я приближался, она шипела и стучала клювом, лапы и когти её были острые, страшные.
Она была крупная, величиной с ястреба-тетеревятника, на груди и на хвосте у ней чёрные крапины, но общее впечатление получалось серебряное, седое, зимнее.
— Что это за птица-то? — бубнил в углу Володя. — Как хоть её звать?
— Бутео лагопус, — ответил я. — Да ты всё равно не запомнишь.
— Чего… бутя? — Володя окончательно забился в угол и прищурил теперь и другой глаз, которым не целился.
— Иди помоги, — сказал я. — Попробуем вправить крыло.
Я надел толстые кожаные перчатки и, пока Володя удерживал птицу, как мог вправил крыло.
Это было тяжелейшее дело. Бутео лагопус клацал, трещал и клевался, раздирал когтями и перчатки, и куртку.
На место перелома уложил я две дощечки-шины, положил на них тугую повязку, так, чтоб не сорвал её с крыла яростный Бутео лагопус.
Потом мы вынесли птицу на улицу, усадили на забор. С ненавистью смотрел на нас Бутео лагопус. Бесстрашными и сильными были его глаза.
— Что ты на меня так смотришь? — приговаривал я. — Это он тебя подбил, я-то при чём?

Но раненый Бутео лагопус не видел между нами — Володей и мной — никакой разницы.
«Бутео лагопус» — это латинские слова. А по-русски птица эта называется очень просто — зимняк.
В наших краях он появляется очень редко, перед самой суровой зимой.
Три сойки
Когда в лесу кричит сойка, мне кажется, что огромная еловая шишка трётся о сосновую кору. Но зачем шишке об кору тереться? Разве по глупости?
А сойка кричит для красоты. Она думает, что это она поёт. Вот ведь какое птичье заблуждение! А на вид сойка хороша — головка палевая с хохолком, на крыльях — зеркала голубые, а уж голос, как у граблей, — скрип да хрип.
Вот раз на рябине собрались три сойки и давай орать. Орали, орали, драли горло — надоели. Выскочил я из дому — сразу разлетелись. Подошёл к рябине — ничего под рябиной не видно, и на ветках всё в порядке, непонятно, чего они кричали. Правда, рябина ещё не совсем созрела, не красная, не багряная, а ведь пора — сентябрь.
Ушёл я в дом, а сойки опять на рябину слетелись, орут, грабли дерут. Вслушался я и подумал, что они со смыслом трещат.
Одна кричит: — Дозреет! Дозреет!
Другая: — Догреет! Догреет!
А третья кричит: — Тринтрябрь!
Первую я сразу понял. Это она про рябину кричала, мол, рябина ещё дозреет, вторая — что солнце рябину догреет, а третью не мог понять.
Потом сообразил, что сойкин «тринтрябрь» — это наш сентябрь. Для её-то голоса сентябрь слишком нежное слово.
Между прочим, сойку я эту заприметил. Слушал её и в октябре, и в ноябре, и всё она кричала: «Тринтрябрь!»
Вот ведь дурында, вся-то наша осень для неё — тринтрябрь.

Раз, два, лошадь, четыре
В поле стояло четыре стога.
Всякий раз, проходя мимо, я с удовольствием смотрел на них. Мне нравилось, как движутся они от дороги к лесу, и я всегда про себя их пересчитывал: раз, два, три, четыре…
Однажды шёл я по дороге и, как обычно, принялся считать: раз, два, три, четыре…
Где же третий стог? На счёте «три» стояла лошадь. Она явно дожёвывала остатки третьего стога.
«Неужели целый стог сжевала? — думал я. — Да нет, наверно, стог увезли, а лошадь случайно попала на это место».
Прошёл месяц, и снова я оказался неподалёку, и счёт получился такой: чибис, два, заяц, четыре.
Не было уже первого стога, и на месте его прохаживался чибис, а между вторым и четвёртым поднял я зайца.
А ещё через месяц никакого уже не получилось счёта. Не было видно в поле ни чибиса, ни зайца, только один четвёртый стог стоял, занесённый снегом. Так и простоял он до самой весны.


Белое и жёлтое
Самые главные бабочки — это, конечно, лимонницы. Они и появляются раньше всех.
В оврагах ещё снег, а уж над тёплой поляной кружат лимонницы. Их жёлтые крылья спорят со старым снегом и смеются над ним. А из земли — белые и жёлтые — торопятся первые цветы — ветреница, мать-и-мачеха.
Белое и жёлтое показывает нам вначале весна, а уж потом всё остальное — и подснежники, и медуницу, и шоколадницу.
Но с белым и жёлтым весна никак не может расстаться. То вспыхнут калужницы и купавы, то зацветёт черёмуха.
Белое и жёлтое проходит через всю весну, а уж в середине лета сходятся белое и жёлтое в одном цветке ромашки.
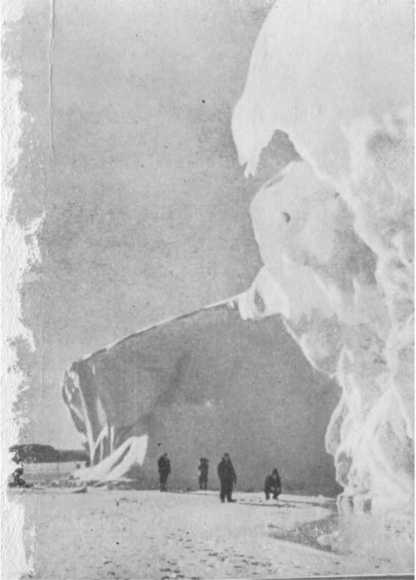

Висячий мостик
Неподалёку от деревни Лужки есть висячий мостик.
Он висит над речкой Истрой, и, когда идёшь по нему, мостик качается, замирает сердце и думаешь — вот улетишь!
А Истра внизу беспокойно течёт и вроде подталкивает: хочешь лететь — лети! Сойдёшь потом на берег, и ноги, как каменные, неохотно идут; недовольны, что вместо полёта опять им в землю тыкаться.
Вот приехал я раз в деревню Лужки и сразу пошёл на мостик.
А тут ветер поднялся. Заскрипел висячий мостик, закачался. Закружилась у меня голова, и захотелось подпрыгнуть, и я вдруг подпрыгнул и — показалось — взлетел.
Далёкие я увидел поля, великие леса за полянами, и речка Истра разрезала леса и поля излучинами-полумесяцами, чертила по земле быстрые узоры. Захотелось по узорам полететь к великим лесам, но тут послышалось:
— Эй!
По мостику шёл какой-то старик с палкой в руке.
— Ты чего тут прыгаешь?
— Летаю.
— Тоже мне жаворонок! Толстоносый! Совсем наш мостик расшатали, того гляди, оборвётся. Иди, иди, на берег прыгай!
И он погрозился палкой. Сошёл я с мостика на берег.
«Ладно, — думаю, — не всё мне прыгать да летать. Надо и приземляться иногда».
В тот день я долго гулял по берегу Истры и вспоминал зачемто своих друзей. Вспомнил и Лёву, и Наташу, вспомнил маму и брата Борю, а ещё вспомнил Орехьевну.
Приехал домой, на столе — письмо. Орехьевна мне пишет:
«Я бы к тебе прилетела на крылышках. Да нет крыльев у меня».


Медведица-кая
Ползёт по влажной песчаной тропе Медведица-кая.
Утром, ещё до дождя, здесь проходили лоси — сохатый о пяти отростках на рогах да лосиха с лосёнком. Потом пересек тропу одинокий и чёрный вепрь. И сейчас ещё слышно, как он ворочается в овраге в сухих тростниках.
Не слушает вепря Медведица и не думает о лосях, которые прошли утром. Она ползёт медленно и только ёжится, если падает на неё с неба запоздалая капля дождя.
Медведица-кая и не смотрит в небо. Потом, когда станет бабочкой, ещё насмотрится, налетается. А сейчас ей надо ползти.
Тихо в лесу.
Сладкий запах таволги вместе с туманом стелется над болотом. По влажной песчаной тропе ползёт Медведица-Кая.
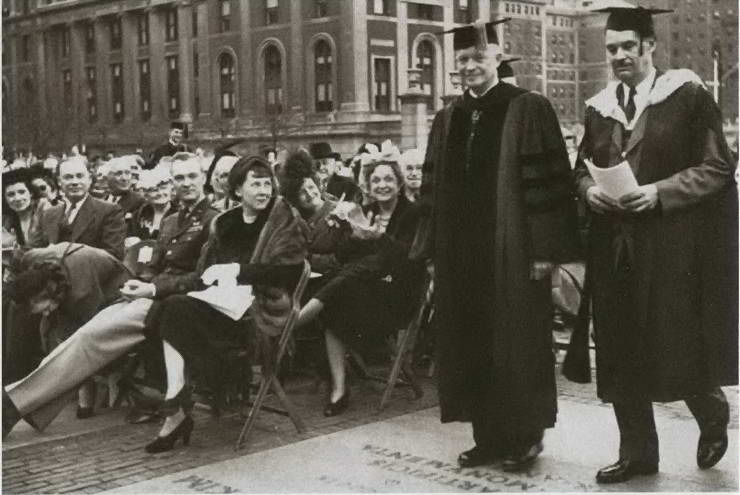

Грач
Грач потонул в траве. Упал с дерева в траву, да и потонул в ней, даже немного захлебнулся.
Напугался грач. Сидит в траве. Глаза вытаращил, а ничего, кроме травы, не видит. Долго так он сидел, а потом высунул из травы голову — ого! Лес вокруг. Деревья мохнатые да косматые, колючие да дремучие.
Тут грач взял да и снова в траву спрятался.
Сидел-сидел, снова выглянул. Лес на месте стоит, на грача глядит. И грач снова спрятался.
Так и пошло у них. Грач высунет голову — лес стоит; спрячется, а лес глядит, а трава-то вокруг шуршит, маленькие травинки пищат, а сухие — трещат.
Пошёл грач через траву пешком, клювом стебли раздвигает, а сам-то дрожит от страху.
Вдруг трава кончилась, и грач увидел поле, а в поле-то два бычка на грача мычат. И оба — белолобые! Вот ужас-то какой — белолобые! Оба! И грач назад в траву попятился.
И тут задрожала земля! Топот раздался, грохот!
Дядька по дороге на кобыле скачет! Дядька! В шляпе!
Мало того, что на кобылу залез, а ещё и шляпу напялил!
Хлопнул грач от страха крыльями — и полетел!
Первый раз в жизни полетел.

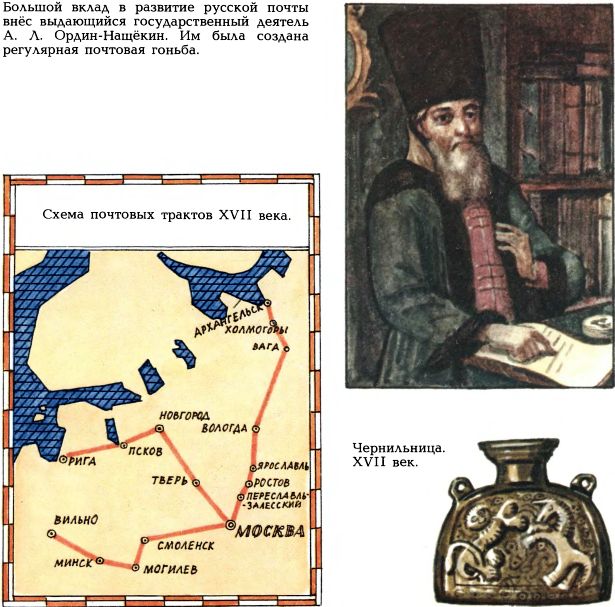
Лошадка задумалась
Лошадка задумалась. Стоит на лугу и думает. И траву не жуёт, на бабочек не глядит, даже мух хвостом не гоняет — думает.
— Лошадка-то задумалась, — сказал возчик дядя Агафон. — Да и есть о чём задуматься. Жизнь — штука сложная.
— Не знаю уж, о чём ей думать? — Колька сказал, механизатор. — Вот у меня забот — задумаешься! В тракторе много лошадиных сил, а запчастей не хватает!
— Думай, милая, — сказала Орехьевна. — Тебе надо думать. Вас, лошадей, немного на свете осталось.
И лошадка думала. Глаза у неё были влажные, серьёзные. Долго так стояла она, а потом махнула хвостом и поскакала в поле. За бабочками гоняться.
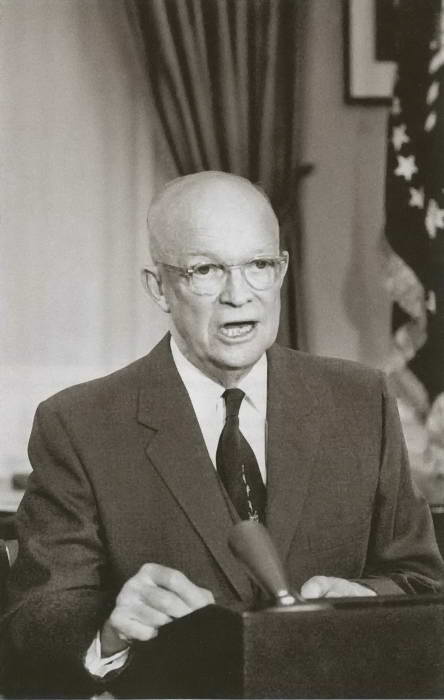

Муравьиный царь
Иногда бывает — загрустишь чего-то, запечалишься. Сидишь вялый и скучный — ничего не видишь, идёшь по лесу и, как глухой, — ничего не слышишь.
И вот однажды — а дело было раннею зимой — вялый и скучный, грустный и печальный, шёл я по лесу.
«Всё плохо, — думал я. — Жизнь моя никуда не годится. Прямо и не знаю, что делать?»
— Клей! — услышал вдруг я.
— Чего ещё клеить?
— Клей! Клей! — кричал кто-то за ёлками. Вдруг я заметил под ёлкою снежный холмик.
Я сразу понял, что это муравейник под снегом, но в муравейнике зияли отчего-то чёрные дыры. Кто-то нарыл в нём нор!
Я подошёл поближе, наклонился, и тут из норы высунулся серый длинный нос, чёрные усики и красная шапка и снова раздался крик:
— Клей! Клей! Клей!
И, размахивая зелёными крыльями, вылетел из муравейника наружу Муравьиный царь.
От неожиданности я отпрянул, а царь Муравьиный полетел низом между деревьями и кричал:
— Клей! Клей! Клей!
«Тьфу ты пропасть! — думал я, вытирая пот со лба. — Клей, говорит. А чего клеить-то? Чего к чему приклеивать? Ну и жизнь».
Между тем Муравьиный царь отлетел недалеко, опустился на землю.
Тут был другой муравейник, в котором тоже чернели норы. Царь нырнул в нору и пропал в глубине муравейника.
Тут только я понял, кто такой Муравьиный царь. Это был Зелёный Дятел.
Не всякий видывал зелёного дятла, не в каждом лесу живут они. Но в том лесу, где много муравейников, обязательно встретишь зелёного дятла.
Муравьи — любимое блюдо зелёных дятлов. Зелёные дятлы очень любят муравьёв. А муравьи зелёных дятлов не любят, просто терпеть не могут.

«А мне-то как быть? — думал я. — Я люблю и тех и других. Как быть? Как в этом во всём разобраться?»
Я пошёл потихоньку домой, и вдогонку мне кричал Муравьиный царь:
— Клей! Клей! Клей!
— Ладно, ладно, — бормотал я в ответ. — Буду клеить! Буду! Короче — постараюсь.
Я стал раскладывать гнилушки на полу. Выложил созвездие Большой Медведицы.
— Правильно я сделал, что разбудил тебя? — волновался Николай.
В избушке они светились точно так же, как на улице. Они не освещали ничего, не грели, но хотелось смотреть и смотреть на них.
Ночью
— Да вставай же ты, проснись!
Я проснулся.
— Выходи на улицу.
Я подумал: что-то случилось. Схватил со стены ружьё, сунул ноги в мокрые со вчерашнего дня сапоги и выскочил из избушки.
— Смотри, смотри, ты должен это увидеть.
Николай стоял под навесом у порога. Была промозглая и тихая глубокая ночь. Легчайший мелкий дождик шелестел в лиственницах.
— Видишь?
Я не видел и не понимал, куда надо смотреть.
— Не вижу, — сказал я.
— Прямо под ногами.
Я глянул под ноги и увидел слабые светящиеся звёздочки на земле. Так, бывает, светятся звёзды небесные через облачную пелену.
— Это гнилушки, — сказал Николай. — Видишь, они светятся…
От порога до костра тянулась светящаяся тропинка. Днём жгли мы гнилое бревно и, пока тащили его к костру, насыпали на землю трухи.
— Это гнилушки, — говорил Николай. — Они светятся. Ты должен это увидеть, поэтому я тебя и разбудил.
Мы стояли рядом и смотрели на землю, по которой был рассыпан спокойный и тихий, очень простой свет.
Скоро мы продрогли, собрали самые крупные светляки, унесли в избушку.

Орденские ленты
Орденские Ленты живут в берёзовых лесах. А я и не знал.
Но вот пошёл в березняк за подберёзовиками, и вдруг — стаями, стаями — стали взлетать передо мной Орденские Ленты.
Хотел было гоняться за ними, да не стал. Глупо это как-то, за Орденскими Лентами гоняться.
Орденские Ленты — ночные бабочки. Днём они прячутся в берёзах, а уж ночью свободно летают по всей земле.
Однажды ночью пришла к избушке Орденская Лента. Я увидел её через окно.
Открыл форточку и поставил свечку на подоконник, чтоб поближе её подманить. И она подманилась.
Плавными кругами, колеблясь и вздрагивая, подлетела она к избушке. Села на подоконник.
Она глядела на свечу, а я думал, что лучшего ордена на свете не может быть. Для моей избушки.


Озеро Киёво
Белым-белы, говорят, были воды озера Киёво.
Даже и в безветренные дни шевелились и двигались они, и вдруг — белою волной — взмывали в небо.
Чайки-чайки — тысячи чаек — жили на озере Киёво. Отсюда разлетались по ближайшим рекам. Летели на Москву-реку, на Клязьму, на Яузу. Все чайки, которых мы видели в Москве, выводились на озере Киёво.
Вначале озеро было далеко от Москвы. Но потом оно делалось всё ближе, ближе. Озеро-то не двигалось, но рос огромный город и его огромный пригород. Дома и домишки стеснили озеро, наступили на его берега. Ржавые железки и погнутые трубы объявились на берегах.
Ссохлось озеро Киёво. Морщины островов и заливов раскололи водное зеркало. Многие чайки ушли жить на вольные места.
«Киёво» — это, конечно, необыкновенное слово. Слово ещё осталось.
Остались на озере и чайки.
С последними чайками остались и мы.


Заячий букет
Зайцы вообще-то не собирают букетов. Зачем зайцу букет? Все полевые цветы над ушами у русаков, все лесные за хвостами у беляков. Да и сам-то заячий хвост называется «пых» или «цветок». Так говорят про заячий хвост старые охотники, а они своё слово знают.
