Судьба изобретателя

Председатель городского суда в Страсбурге вопросительно взглянул на трех братьев Дритцен:
— Я не могу понять в чем дело. В чем вы обвиняете Иоганна Генсфлейша, именуемого Гутенбергом из Майнца?
Старший брат склонился перед судьей так низко, как только позволял ему необъятный живот.
— Достопочтенный судья, вопрос ясен, как божий день. Наш брат был компаньоном в ремесленной мастерской, основанной Иоганном, именуемым Гутенбергом. Он внес в это предприятие большой капитал. Полгода назад он скончался, оставив нам в наследство свое имущество. Мы хотим получить и его пай в товариществе, основанном Иоганном Гутенбергом.
— Действительно, дело ясное, — произнес судья. — У вас есть в этом предприятии денежный вклад, унаследованный от брата и, если вы его не изымете, то можете стать компаньонами.
— Мы и не собираемся изымать пай, достопочтенный судья. Но они не хотят принять нас в товарищество.
— Кто они?
— Иоганн Гутенберг и его приятели Риффлс и Гальман. Их было четверо компаньонов вместе с нашим братом.
— Минуточку, минуточку, — произнес судья. — Что это за предприятие, с которым вы непременно хотите иметь дело?
— Этого мы не знаем, уважаемый судья.
— Как это так? Вы не знаете, чем занимается Гутенберг, а хотите непременно работать с ним?

Братья сидели, понурив головы.
— И ваш покойный брат ничего не рассказал вам об этом?
— Нет
— Есть ли здесь свидетели но этому странному делу? — спросил рассерженный судья.
Два молодых человека встали со скамьи.
— Мы компаньоны Гутенберга.
— Каким ремеслом вы собираетесь заниматься? Оно, вероятно, приносит немалый доход, если братья Дритцены так стремятся попасть в компаньоны.
Молодые люди молчали. Со скамьи встал могучего сложения человек с курчавой бородой. Это был Гутенберг.
— Достопочтенный судья, они ничего не скажут. Основывая наше предприятие, мы все дали клятву, что до поры до времени будем хранить в тайне наше дело и никого больше не примем в наше товарищество. В случае же смерти одного из нас остальные обязались выплатить наследникам его долю, не допуская никого до участия в предприятии. Это как раз и произошло. Могу лишь сказать, что наше ремесло — дело совершенно новое и никому ничем не угрожает.
Судью удовлетворили слова Гутенберга. Клятва — дело святое.
— Это зеркала! Они собираются делать зеркала неизвестным дотоле способом, — крикнул из глубины зала какой-то толстяк.
Братья Дритцены с неудовольствием взглянули в его сторону. — Дело здесь совсем не в зеркалах, в изготовлении зеркал нет ничего секретного.
Однако вмешательство толстяка словно подтолкнуло их говорить о том, о чем по всей вероятности до сих пор им не хотелось рассказывать.
— Это ремесло, требующее больших денежных вложений, — снова сказал старший брат, который, вероятно, выступал от имени всей семьи.
— Да, они покупали очень много свинца, — неожиданно вмешался младший брат, подросток, довольно глуповатый на вид.
— Свинца? Это зачем же? — удивленно спросил судья.
Остальные братья рассерженно взглянули на младшего, который от страха вобрал голову в плечи и замолк. Однако средний брат, высокий и худой детина с искаженным злостью лицом, не выдержал и произнес:
— После смерти брата Иоганн Гутенберг пришел к нему в дом забрал все свинцовые палочки и велел слугам расплавить их в своем присутствии. Он сказал, что эти палочки принадлежали ему.
— Какие палочки? — спросил судья.
— Такие маленькие палочки, — неохотно ответил старший брат.
— Мне принадлежит и пресс, — раздался голос Гутенберга. — Но вы не хотите отдать его мне. Вы даже спрятали его.
— Пресс? Какой пресс? — с деланным удивлением спросил старший брат.
— В доме покойного не было никакого пресса, — заверил второй. А третий лишь изобразил на своем лице удивление, словно только сию минуту узнал, что в мире существуют какие-то прессы.
Судья больше не попытался вникнуть в это таинственное дело. Собственно говоря, дальнейшее разбирательство не вносило ничего нового. Он оповестил свое решение:
— Если компаньоны не хотят принимать никого в свое товарищество — это их право. Дритцены должны взять от Гутенберга денежный вклад своего брата.
Дело было окончено. Возвращаясь домой, судья раздумывал, чем же занимается Иоганн Гутенберг.
* * *
Погани Фуст отрицательно помотал головой.
— Нет, господин Гутенберг, два года назад я дал вам взаймы 800 гульденов. Ведь это целое состояние. За эти деньги я мог бы купить сто отличных волов. А сегодня вы снова просите в долг 800 гульденов.
— Вы же самый богатый торговец во всем Майнце, — спокойно произнес Гутенберг, хотя это спокойствие стоило ему дорого: ведь он никогда и ни о чем не привык просить.
— Первые 800 гульденов вы дали мне под залог моей типографии. Так что вы ни чем не рискуете.
— Быть может, я и богат, — произнес Фуст, распираемый скрытой гордостью, — но богат именно потому, что всегда с большой осмотрительностью распоряжался своим имуществом. Что касается второй суммы, то, возможно, я и дам ее вам, однако, при условии, что вы примете меня в компаньоны.
Гутенберг уже давно понял, к чему клонит Фуст. Но у бедного изобретателя не было другого выхода.
— Вы хотите стать совладельцем моей издательской фирмы, господин Фуст? Но разве вы разбираетесь в книгопечатном искусстве?
— Насколько я знаю, оно приносит неплохой доход, — рассудительно заметил Фуст. — Разбираюсь ли я в книгопечатном искусстве? А к чему мне это? Достаточно, что вы хороший знаток. Впрочем, здесь нет никакой особой премудрости. Ведь уже давным-давно на ярмарках продают картинки, отпечатанные с гравюры на дереве, даже с коротенькой молитвой внизу. Гравер делает картину на деревянной доске, оставляя выпуклыми те части, которые на картине должны получиться темными, и вырезает все, что должно остаться незакрашенным. Так же вырезает он и слова молитвы. Потом доску покрывают черной краской, кладут на нее лист бумаги и кусок сукна, все это идет под пресс — и картина готова. Можно так печатать множество экземпляров, пока выдержит доска. Гутенберг с нескрываемой иронией взглянул на Фуста.
— Таких мастерских, где печатаются картины и даже игральные карты, — великое множество. Почему же вы хотите стать моим компаньоном?
— Потому что ваше предприятие — нечто совсем новое. Вы тоже смазываете текст краской, тоже печатаете его на бумаге под прессом, однако, вы впервые применили подвижные заменяемые буквы. После того, как текст набран и отпечатан на бумаге, вы можете разобрать шрифт и сложить из них новый текст, а кроме всего прочего вы не вырезаете шрифт из дерева, а отливаете его. Но как вы это делаете — я, право, не знаю.
— Я могу принять вас в компаньоны, однако, способ изготовления шрифта останется моим секретом, — решительно произнес Гутенберг.
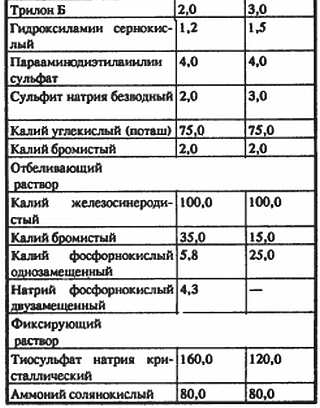
* * *
Фуст стал компаньоном Гутенберга, а за 800 гульденов, полученных от него, изобретатель приобрел большое количество бумаги, пергамента, краски и свинца. Он принял также шесть учеников и научил их набирать текст и печатать его с помощью пресса. Гутенберг решил напечатать Библию.
Это было очень смелое начинание, и в случае успеха, могло принести большие барыши. До сих пор Библия переписывалась вручную на пергаменте. Переписка одного экземпляра продолжалась около полутора лет, а книга стоила — в зависимости от оформления — от 60 до 100 гульденов.
Гутенберг собирался отпечатать часть экземпляров на пергаменте, а часть на бумаге, стараясь, чтобы печатные буквы были очень похожи на написанные. Гутенберг собирался издать Библию в двух томах. Он подсчитал, что для одного экземпляра потребуется 650 страниц. Приобретение бумаги не представляло трудности. Однако для одной книги, отпечатанной на пергаменте, требовалась шкура 170 телят.
Но самым трудным делом была подготовка шрифта. Для одной страницы Библии нужно было около 2600 букв. Для каждого наборщика требовались три комплекта шрифта, поскольку, когда одна страница находилась в наборе, вторая лежала под прессом, третью, вынутую из-под пресса, надо было высушить, разобрать шрифт и разложить его по отдельным ящичкам. Для шести наборщиков, работавших в мастерской, предстояло сделать около 50 тысяч букв.
