Портрет завода как он есть
Когда я начал работать на заводе, я думал, что там будет все не такое, как в моей прежней жизни. В нашей школе, например, меня долго отучали от веселости, от живого характера.
— Привыкайте быть серьезными, — говорила нам часто учительница литературы Лидия Сергеевна. — Если сейчас не привыкнете, то потом на работе вам достанется лихо.
Сама Лидия Сергеевна никогда не смеялась, потому что давно приучила себя быть серьезной.
И потом мне не раз приходилось слышать, что, готовясь работать, а особенно на заводе, надобно спрятать в карман всякие свои черты характера, кроме настойчивости, пресерьезности и разответственности.
— Детство кончилось. Всё! — говорили мне многие, словно бы с удовольствием. Мол, повеселились, поиграли — и хватит: отрабатывайте нынче за это.
Но вот я наконец работаю на заводе не один уже год — и что же? Где же эта прескучнейшая фигура человека, занятого работой с видом полного отрешения от всей живой жизни? Где эта фигура, которую Лидия Сергеевна хотела из нас образовать? Нет кругом меня такой фигуры. Работа на заводе, как и всякая другая работа, вижу я, — это такое же дело человеческого характера, как и все другое, совершаемое человеком в жизни. В нем тоже много и веселого и печального, бывают радости и обиды, много значат увлечения и охлаждения. Словом, работа — это форма жизни, а вовсе не откладывание ее до половины четвертого, до звонка об окончании смены. И как только я забыл то, что говорила Лидия Сергеевна, так оказалось, что я вполне к этой жизни готов. Все отношения между людьми на заводе, хотя и вертятся вокруг новых для меня предметов, в основе такие же, что и в детстве, что и в незаводской, знакомой мне жизни. Мало того, мне показалось, что тем только и может двигаться любое живое дело, как бы ни было оно отвлеченно.
Поэтому сейчас я расскажу не о том, что мы делаем на заводе, а о той человеческой атмосфере, которая нас целый день окружает. Это будет портрет завода — портрет завода как он есть. Я пройдусь по заводу туда и обратно. Пройдусь туда — получится полпортрета. Пройдусь обратно — и другая его половина.
Музыка
Утром все мы идем на завод Кто уже проснулся, а кто на ходу досыпает. Кто торопится, а кто спокойно ему говорит:
— Не торопись, никто твой станок не займет.
Вся улица понемногу втягивается в проходную завода.
И вдруг из проходной мы услышали музыку. Самую веселую музыку. И даже не одну, а сразу две музыки, то есть одну, но из двух колокольчиков, которые силятся друг друга обогнать.
Кто еще не проснулся — тот разом проснулся, А кто был вялый по природе — тот сразу стал по природе не вялый.
— Идем, как на танцы, — сказал Жора Крёкшин из соседнего цеха.
— Заманивают нас в завод с утра пораньше, — сказала тетя Настя, а сама довольна, даже пошла поскорее, хотя и знает, что станок не займут.
Оказывается, было решение завкома: по утрам давать из проходной людям музыку. Для утренней бодрости.
Заботится завком о нас о всех с утра пораньше.
Строят
Много строят у нас на заводе. Недавно построили новую проходную, и вначапе некоторым она не понравилась. Всегда есть люди, которым не нравится новое.
Надо в этом случае их к нему приучать.
Как же приучать?
А очень просто: выстроить новую проходную, выкрасить ее, как считают красивым хорошие архитекторы — и все, и пусть стоит, пусть теперь ходят сквозь нее и привыкают к красоте. И больше ничего другого делать тут не нужно, так и привыкнется само собой.
Вернее, нужно делать и еще кое-что: строить дальше.
Вот уже и строят красивые большие здания дпя цехов, для новой столовой, с прямыми линиями, с окнами от потолка и до пола.
— Пусть стена будет гладкой, а внутри все как можно красивее и удобней, — говорят теперь архитекторы.
Так у нас на заводе и строят.
То в жар, то в холод
Когда идешь по заводу, проходишь временами, как через волны: то в жар, то в холод.
Это, можно сказать, температура технологии. То ей требуется, чтобы было тепло, то, напротив, она жары не выносит. Поэтому на разных участках и температура разная. Есть участки, которые так и называются: горячие операции.
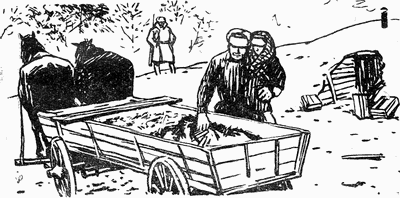
Этой разницей кое-кто пользуется, например, по пути в столовую.
Зимой стараются выбрать себе такой путь, чтоб идти все по теплому, а потом быстро кинуться в дверь и так, без пальто, из двери в дверь, перебежать в столовую.
Правда, это не полагается, за это ругают. Даже выговор могут объявить для твоей же пользы, для пользы здоровью: за то, что раздетый выходишь на холод.
Летом же, ясно, куда б ты ни шел — обязательно выберешь путь попрохладней.
Как на заводе говорят
А говорят на заводе так, что посторонний в технике человек не всегда может сразу и понять.
— Кто вчера оставил зайчик, признавайтесь? — спрашивают, например, в лаборатории утром.
И тот, кто оставил, разумеется, признается.
Вам этого сразу не понять — да и не сразу тоже, боюсь, не поймете. Есть такие точные приборы, у которых вместо стрелки по шкале ходит светлая черточка — зайчик. А горит этот зайчик от отдельной батарейки.
Кто последний уходит, тот все выключает. То есть выключает электричество на общем щите. Зайчик же при этом остается гореть, если тот, кто включип его, позабыл погасить.
— Ой! — говорит вдруг кто-нибудь. — Что же делать? Стрелка в угол забилась — и не вытащить.
Это не значит, что какая-то стрелка вдруг обиделась на него и забилась в угол комнаты, да так, что и не вытащить ее оттуда силой. Это означает, что ток был большой, и стрелка прибора ушла за шкалу.
Тут о приборах говорят, как о живых. Вот потому и не сразу понимают чужие.
Серьезные люди конструкторы
Однажды, когда я пришел в конструкторское бюро, два конструктора ссорились, сойдясь у чертежа. Это была очень вежливая, очень научная, жуткая ссора.
— Вы похожи на генератор, нагруженный емкостью, — сказал вдруг один.
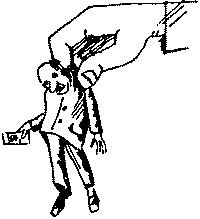
Второй при этих словах побледнел, стал, как ватман у него на доске.
— Что? — спросил он тихо. — Как вы сказали? Генератор?
— Да, — подтвердил тот. — Генератор!
— Нагруженный как? На емкость?
— На емкость! — подтвердил снова первый, торжествуя.
Тогда второй схватился за голову, прикрыл лицо локтями и выскочил в коридор.
Он не вынес такого страшного ругательства.
Вот какие серьезные люди — конструкторы! Даже когда они ссорятся, их не каждый поймет.
С похвалой работать лучше
Моя соседка по квартире Тоня работает в нашем цеху на монтаже.
Тоня работает хорошо, но всегда говорит своему мастеру:
— Ты меня подхваливай, так я как лошадь работать буду.
А мастер не хочет.
— Ишь ты! — говорит он Тоне. — Если подхваливать, так и все будут работать, а ты без того.
— Да что вам, жалко? — говорят другие рабочие мастеру. — Вы ее немного похвалите, она, и верно, в два раза больше сделает.
— Мне, конечно, не жалко, — соглашается мастер. — Мне похвалить не составляет труда. Только вы мне подсказывайте вовремя, кого похвалить.
Но Тоня так не хочет.
— Это ваша специальность. Я свою операцию выполняю, а вы смотрите, кого и когда похвалить.
Так ее и не хвалят.
Упрямый наш Жора
Жора Крёкшин из соседнего цеха — человек на редкость правдивый.
Сначала он учился, чтобы стать настройщиком электрических схем. Он учился, пока не дошел до электрона. Из них, из электронов, состоит все электричество, которое он будет настраивать, Но, конечно, увидеть их никак невозможно, потому что электроны даже меньше микробов, которых мы все же умеем разглядывать в микроскоп.
И Жора, не видя нигде электрона, никак не мог его себе представить и не захотел поэтому дальше учиться.
— Да ты бы поверил, и дело с концом, — говорили Жоре все в цехе.
— Нет, — отвечал печально Жора. — Как же поверить, если я не представляю? Я не могу, значит, работать с электричеством, раз не представляю себе электрона.
— Да ты прими его на веру! — говорили ему и смеялись над ним.
— В это надо поверить однажды, и все, — убеждал Жору старый настройщик Петров.
— Да чего там ломаться-то, надо поверить! — говорили ему все монтеры, настройщики, слесари, сборщики, комсорг, профорг, гардеробщица, мать, вахтер в проходной и кондуктор в трамвае.
— Нет, не могу, — отвечал виновато Жора Крёкшин. — Я должен представить. Ведь электрон же — из него все состоит, все электричество.
Так он и ушел из настройщиков, хотя у настройщиков большая зарплата. Жора стал учиться на слесаря, и теперь он хороший, самый лучший слесарь по металлу в цеху.
— Потому что я все могу себе представить, что делаю, — объяснил он мне сам.
И, надо сказать, я хорошо его понял.
Телефон в его руках
На заводе, да еще на большом, где такие расстояния от цеха до цеха, ничего нельзя сделать без хорошего телефона.
У многих заводских людей телефон — такой же инструмент, как у сапожника шило или, например, у кузнеца его молот. Как они ведут себя с телефонной трубкой? Даже улыбаются ей, словно близкой, родной.
Один начальник цеха, мой знакомый, работает с ней ну особенно ловко.
Помедлив, не сразу, хватает он трубку, слегка воспитывая телефон, чтобы зря не звонил. Ловко вынув ее из ложбины, приставляет скобой сразу к носу и к уху.
— Алло! — говорит он угрожающе громко, чтоб на том конце устрашились звонить не по очень важному делу.
Разговаривая, он постепенно выходит из разговора — словно выплывает из-под воды на поверхность. Это заметно по тому, как голос становится все тише и тоньше.
И когда произносит последнее, самое тихое слово, он тут же бросает трубку обратно на черные кнопки.
Ухо при этом у него накаляется, и когда он трубку отнимает, оно горит, как розовый цветок. Погорит, погорит, а потом остывает.
Как на заводе еще говорят
— Ушел размер, — говорят на заводе с огорчением, когда деталь получилась неверно. То есть это плохо, что размер куда-то ушел, удалился. Ему бы, размеру, уходить не годилось.
— Эта лампа гуляет, — говорят на заводе о радиолампе, у которой все время меняются ее параметры. Даже объяснить это в двух словах невозможно, а заводским сразу ясно: раз гуляет, то лампа плохая.
У каждой лампы есть ножка, есть юбочка, у иных есть и хвостик; есть вход, в который никому не залезть, кроме электрического тока, выход есть у лампы, из которого тоже никто не выходит.
У монтажного стола есть клюв.
У токарного станка есть бабка, даже две, как у каждого человека. Только это какие-то странные бабки: одна передняя, а другая задняя. Так у наc, у людей, не бывает.
— Задняя бабка у тебя барахлит. Вот размер и ушел, — говорят на заводе.
И этого тоже посторонний никак не поймет.
Характер, которому надо учиться
Рядом с Тоней на сборке работает Валя. Характер у Вали устроен так, чтобы всегда со всеми спорить.
— Захожу я вчера в наш магазин, — рассказывает, например, Тоня попросту.
— Нет, а я, — перебивает Тоню Валя, — лично я никогда в наш магазин не хожу! Я хожу по магазинам только в центре.
И Тоня не спорит, потому что впустую: Валин характер никто еще не мог переспорить. Валя сама его переспорить не может, и ей самой себя бывает от этого жалко.
Валя кончила в школе семь классов и больше учиться не хочет ни года.
— Что я, лучше, что ли, буду, если выучусь? — говорит она дерзко, когда ее уговаривают всей бригадой поучиться еще.
Так и не можем мы ее уговорить.
Недавно пришел к нам на практику тихий студент. Посадили студента за стол рядом с Валей.
— Эй, студент! — кричит ему Валя, — Оглянись-ка, чего я тебе расскажу!
А студент молчит, не оглянется.
— Что ты за мужчина! — говорит ему Валя. — Все молчишь и молчишь. Разве тихие мужчины бывают?
А студент молчит себе, хотя мужчины тихие и не бывают.
— У тебя почему такой характер спокойный? — спрашивает Валя с завистью. — Наверно, потому, что ты ученый?
А студент молчит, не объясняет, работает, хотя ему трудно с непривычки на сборке, трудно угнаться за такими, как Валя.
— Вот характер! — восхищается Валя. — А все потому, что он долго учился. Видно, для характера учиться полезно.
После работы пошли они вместе со студентом домой. И о чем они там говорили, никто знать не может. Назавтра снова они выходили вдвоем. Послезавтра опять.
И характер у Вали стал слегка поправляться.
— Валя, а характер у тебя поправляется, — заметила Тоня.
— Да, — сказала Валя, — поправляется. Но это еще что! Скоро я учиться пойду, тогда он сразу поправится, на все сто процентов.
Нам всем было очень интересно: чек же студент переспорил трудный Валин характер? Какими словами?
Я часто ходил рядом с ними с завода. Я иду, а они недалеко впереди, и Валя без конца говорит, но студент с ней не спорит, только слушает ее и совершенно молчит.
Кто, как и где обедает
Вот проходит полдня. Наступает обед.
В разных цехах он устроен в разное время, чтобы люди не мешали друг другу в столовой. Правда, честно сказать, все равно мешают, хотя на заводе так много столовых и буфетов, что я каждый раз, начиная обед, долго выбираю, куда мне пойти.
Чаще всего я никуда не иду. Чаще я остаюсь у себя, прямо в цехе, потому что нам нравится пообедать всем вместе, а за обедом спокойно обо всем поговорить.
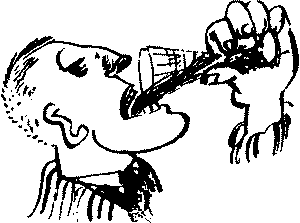
Вот тут и разворачивают все свои завтраки, берут в буфете чай и едят. А кое-кто делает чай у себя в лаборатории или в конторе. Один, скажем, сахар принесет, а другой — чай-заварку. Кипяток всегда в цехе есть, целый день специально греется кипятильник. А многие едят прямо даже без чаю, сидя на скамейке во дворе, если погода и если есть завтрак.
Если нету — сидят в коридоре у цеха, в красном уголке, в раздевалке. Там читают и слушают радио: последние известия или разучивание песен.
— А теперь эту мелодию сыграет нам фагот... Прошу вас, Владимир Николаевич... Начали!.. Большое спасибо... Запишите слова.
У нас в цехе любят слушать радио.
Здравствуйте
На заводе не всех обязательно чинно знакомят.
Встречая меня каждый день в проходной, Жора Крёкшин незаметно со мной стал здороваться. И я с ним, понятно, стал здороваться тоже. И только после этого мы познакомились.
Иногда же идешь по заводу, видишь человека, которого часто встречаешь, и уже совсем готов улыбнуться и сказать ему: «Здрасьте».
Но если поздоровался раз, то уж надо потом и всегда. А столько людей на заводе, с кем ты должен сегодня здороваться, что это уже начинает слегка мешать твоей работе.
Я раз и навсегда решил здороваться только с теми, кого я точно знаю по имени и фамилии или хотя бы знаю, кем он работает на заводе.
Но это решение все время нарушаю.
Потому что как это можно, встречаясь со знакомым тебе человеком, даже не зная, что сказать ему нового, как же можно хоть бы глазом не моргнуть ему, хоть бы пальцем или губами, или бровью не дать ему знать, что он свой человек, что ты его отличаешь от прочих, ибо это не столь пустяковое дело — хорошее знакомство с человеком.
Зарплата
Дважды в месяц дают на заводе зарплату.
— Сегодня работать хорошо — за денежки, — говорят рабочие, направляясь в этот день на завод.
— Сегодня вообще день хороший: суббота да еще с деньгами, — говорит мне Тоня.
С утра у кассы стоят представители каждого цеха. У них небольшие железные чемоданы для денег. Деньги сперва получают на цех, а потом, уже в цеху, раздают кому сколько.
Тоня тоже получает — столько, сколько заработала.
С получки Тоня покупает билеты в театр. Покупает журналы «Работница», «Моды». Тоня прочтет эти журналы и увидит, как надо жить и во что одеваться.
После работы Тоню встречают за проходной кондукторы автобусов и трамваев. Они уже знают, что сегодня получка, и несут к заводу проездные билеты на месяц.
— Карточку, карточку не забудьте купить! — говорят они всем, чтобы те не забыли.
И все, кому надо, обязательно купят.
А Тоня еще не пробовала, но сегодня и она вдруг решается, берет себе карточку. Потому что сегодня зарплата, день особый. Сегодня на многое можно решиться.
Это помощь нам от нас
В день получки к нам в лабораторию вбежала веселая женщина.
— Пять рублей не разменяете? — спросила она.
Все заулыбались, показав, что еще им менять просто нечем.
— Пять рублей не разменяете? — спросили меня в тот же день в другом цехе.
— Нет, — говорю. — У меня еще нету.
Значит, на заводе уже начали вовсю давать зарплату. Нынче, видимо, дают ее пятерками. А менять их надо, потому что в этот день платят взносы в разные общества. В этот день платят в кассу взаимопомощи.
Эта такая особая касса, которая очень нам всем помогает. Вернее, мы сами через кассу помогаем нам самим.
— Как же это так? — спросите вы.
А так.
Нас, которые помогают, собралось очень много, и каждый вносит в кассу пустяк. В кассе же собирается огромная сумма. А нас, которым в этот раз помогают, немного: ведь не всем же понадобится вдруг эта помощь.
Недавно я купил в магазине большой новый шкаф. Я его долго искал, наконец купил и привез к себе на квартиру.
Вот тут бы мне без кассы и никак не обойтись, А потом понемногу я ей помощь верну.
Нужна все-таки эта взаимная касса.
Учеба на собственном пальце
Однажды к нам на участок привезли такелажники новый станок. Такелажники — это те, кто переставляет станки и автоматы в цехах. Они обучены, как это следует делать.
Со стороны же кажется, будто дело это простое, обычное мужское дело — поднять и толкнуть, то есть можно, имея одни только мышцы, делать его наравне с такелажниками.
Станок подняли на лифте к нам на этаж, положили на каток и повезли по проходу. Каток прокручивается под станком, и тот по нему продвигается дальше. Когда станок проедет по катку до конца, спереди подсунут под него второй и так далее.
— Е-еще! — кричал бригадир, и такелажники дружно налегали все разом.
— Стоп! — говорил бригадир и подкладывал каток, когда все действительно делали стоп.
И вдруг я увидел, что станок соскочил с катка, и мне показалось, будто он придавит такелажникам ноги.
— Эй! Берегись! — закричал я на весь цех и кинулся помогать.
Я ухватил станок из-под низу руками, а такелажники немедленно его отпустили — так как сам же я кричал им вовсю: берегись! И станок хорошо придавил мне мой палец.
За этот палец мне вынесли выговор по заводу, в приказе.
Сначала мне было обидно и непонятно: за мой же отдавленный палец и выговор мне же, хотя я стремился им только помочь.
Но после я понял, что выговор правильный: он меня научил не браться за то, чего делать я не умею, хотя мне и кажется, будто могу. Это еще хорошо, что я отделался пальцем, который вскоре зажил себе да и все. А могло быть значительно хуже и мне и другим.
Тем более что станок, оказалось, никуда не соскакивал, это вышел первый каток из-под низу, и уже бригадир преспокойно подсунул второй.
Неглавные шефы
Как-то наш завод познакомился с одним военно-морским грозным крейсером, который плавал тогда неподалеку от нас.
Мы, завод, стоим одиноко, кругом нас раскинулся деловой большой город. Он, этот крейсер, одиноко плывет день и ночь, кругом расстилается бурное море.
Мы завод орденоносный, и он, крейсер, тоже.
Нам в самый раз подружиться друг с другом.
Взяли мы тогда и подружились, раз обоим хотелось. То есть между двух людей это была бы действительно дружба. У завода и крейсера дружба называется шефством.
Шеф, как я понимаю, значит главный. Шеф-повар, например, — это повар самый главный среди других поваров. Но кто из нас главный, сказать было трудно. Тот, который шеф, тот и главный над своим подшефным. В письмах считалось, что шефы — завод. Но когда на завод приезжали матросы, главными были, понятно, они, так как гости. А когда мы к ним приезжали на крейсер как шефы, — главными были опять же они.
Вот, например, мы поем им со сцены, для них поем, стараемся для них, для кого же еще?
Или вот, наконец, открываются танцы.
— Пойдем потанцуем, — предлагаю я Тоне, с которой мы весело отплясываем на всех вечерах.
И вдруг наша Тоня отступает от меня, как от невежливого человека, и не хочет со мной ни за что танцевать.
— Да вы что! — говорит она мне. — Вы сегодня погодите. Дома натанцуетесь. А сегодня пускай потанцуют они, потому что им не каждый вечер можно тут, на крейсере, танцевать, да и не с кем.
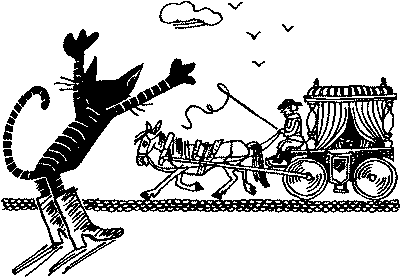
И она показывает на окружающих нас моряков, которые так и рвутся грудью в танец, хотя они нынче и не главные, а главные мы, потому что мы шефы.
Правда, пока мы разговаривали с Тоней, танец начался, и ее не пригласили. Но Тоня со мной все равно не пошла.
— Ничего, — сказала она. — Пусть я постою, а они на меня поглядят. Надо же им присмотреться. Пусть у них будет выбор.
Так она и простояла для выбора, пока все плясали, а на следующий танец ее пригласили даже четверо враз.
А я, и Жора Крёкшин, и другие наши рабочие нисколько не обиделись. Мы встали в сторонку, чтобы не мешать танцевать, потому что мы шефы, а значит, подшефным мешать не должны.
Одним махом
Недолгое время работал в нашем цехе монтер Петухов. При его нетерпении у нас ему работать было трудно.
Он хотел одним махом все на свете улучшить.
Вымыться в бане до такой чистоты, чтоб никогда больше в жизни не вздумалось пачкаться или потеть. Вычистить раз и навсегда свои ботинки, чтобы потом они блестели всю жизнь. Брюки отпарить, навести на них стрелки, да так, чтоб отныне никогда не измялись. И механизировать кругом всю работу, все ручные операции — немедленно и враз.
