СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ
День рождения
ГУЛИКО
МАТЬ
ПАРНАС
ЗАКУСОЧНАЯ
МОРЕ
ТАВЕРА
СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО
ГАЛАКТИОН
ПАРК ИМЕНИ КИРОВА
НЕ ПОКИНЬ МЕНЯ!
ЛИЯ
НЕ УБИЙ!
notes
1
2
3
4
5
МОСКВА
״МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
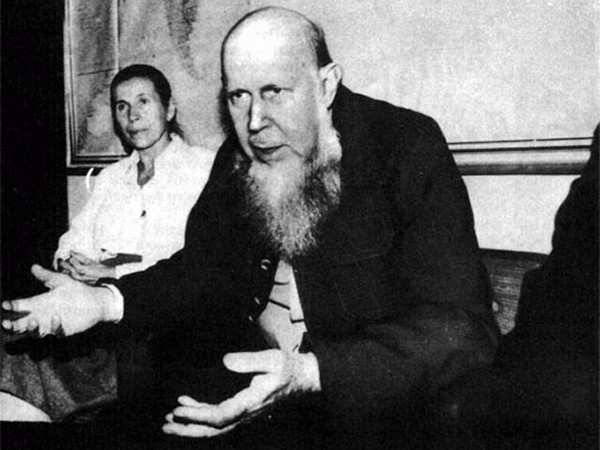

Нодар Думбадзе
ИЗБРАННОЕ В ДВУХ ТОМАХ
Перевод с грузинского ЗУРАБА АХВЛЕДИАНИ
СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ
Роман
День рождения
В сто седьмой аудитории разыгрывалась трагедия. Экзамен по политэкономии принимал сам профессор, уважаемый Касьян Гогичайшвили. Событие это само по себе для нас не было неожиданным, и никого оно особенно не волновало. Но когда из аудитории, вопя и царапая щеки, выскочила Люба Нодия и заявила, что «он все слышит!» — нас объял ужас. Кто бы мог подумать, что наш добрый, глухой профессор, которому на экзамене можно было, не опасаясь за последствия, рассказать вместо теории меркантилизма о строении корней люцерны, — кто бы мог подумать, что он обретет слух именно сейчас, в разгар весенней экзаменационной сессии! В такой ситуации лично для меня экзамен можно было считать оконченным, но любопытство взяло верх, и я подбежал к пожелтевшей, словно перезревшая дыня, Любе, которая никак не могла оторвать взгляда от красовавшейся в ее зачетной книжке двойки.
— Ну, выкладывай, в чем дело? — спросил я и потянул ее за рукав.
— Что мне теперь делать? — простонала Люба.
— Да разве он не знал, что выставлять двойку в зачетной книжке не полагается? — спросил Гурам.
— Я сказала ему. А он ответил, что не знал, что впервые в своей жизни пишет двойку. Что мне теперь делать? — Глаза у Любы наполнились слезами.
— А все же, какие тебе достались вопросы? — спросил Гурам.
— Первый — товарооборот, второй — инфляция, третий забыла...
— И ничего не ответила?
— Я начала отвечать.
— Что же ты сказала?
— Сказала, что лето, мол, провела в деревне, помогала на огороде бабушке... Что бабушка моя женщина добрая...
— А он что?
— Ну, говорит, пусть добрая бабушка и выставит тебе отметку...
Люба, всхлипнув, уткнулась лицом в зачетную книжку.
Дверь аудитории распахнулась, и появился наш староста Ефрем со списком в руках.
— Барамидзе и Чичинадзе, входите! — объявил он.
— Дегенерат! Это в каком алфавите после «Б» следует «Ч»? — возмутился Гурам.
— Один сверху, один снизу! — разъяснил Ефрем, указывая глазами на дверь, — дескать, я тут ни при чем, так велел профессор.
Я не знаю названия этой болезни — ну, когда сердце подступает к горлу, язык проваливается, лоб покрывается холодной испариной, колени подкашиваются, руки начинают дрожать и в глазах темнеет, — однако, взглянув на Гурама, который огромным платком вытирал лоб и руки и облизывал пересохшие губы, я понял, что болезнь эта заразная.
В аудиторию мы вступили на цыпочках. У покрытого зеленым сукном стола сидел улыбающийся профессор. Мне сразу бросились в глаза его новые очки — огромные, в золотой оправе, концы которой соединялись с погубившей нас миниатюрной мембраной.
— Присаживайтесь, пожалуйста! — вежливо пригласил он нас.
Мы не тронулись с места.
— Вы что, плохо слышите? — повысил профессор голос. — Пожалуйста, к столу!
Мы присели к столу, на котором, словно листки со смертным приговором, лежали белые, почти нетронутые экзаменационные билеты.
— Возьмите билеты и подготовьтесь! — попросил профессор.
Я взял билет, пробежал его глазами и понял, что эго именно тот билет, думать над которым я буду до самой смерти. Гурам тоже взял билет, быстро на него взглянул, и я прочел в его глазах печаль отданного на заклание бычка.
— Ваши имя и фамилия? — спросил профессор.
— Барамидзе Теймураз! — ответил я на первый вопрос.
Профессор записал в блокнот.
— Ваши? — обратился он к Гураму.
— Чичинадзе! — бодро ответил Гурам.
Профессор записал.
Я и Гурам уселись согласно экзаменационному ритуалу поодаль друг от друга. С удивительным равнодушием стал я читать свой билет. Первый вопрос — земельная рента.
— Может, начнете? — спросил вдруг меня профессор.
— С удовольствием! — ответил я.
Гурам от удивления разинул рот.
— Ну-с, приступайте! — обрадовался профессор.
— Земельная рента. В капиталистических странах земля продается. Там вообще продается все, даже совесть. Совесть, разумеется, дешевле. Рентой называется доход, получаемый капиталистами с земли. В капиталистических странах очень высокие налоги. Крестьяне стонут под ярмом военных налогов, потому что капиталисты бряцают оружием. Вооружение требует больших расходов, расходы — денег. Откуда взять деньги? — спрашивает логика событий. Ясное дело, путем взимания налогов!..
— Как вас зовут, молодой человек? — прервал меня профессор.
— Темо, батоно!
— Посещали ли вы мои лекции?
— Что за вопрос, уважаемый профессор! — обиделся я.
— Почему-то я вас не помню... А вас я вообще не знаю! — обернулся он к Гураму.
— Зато мы вас прекрасно знаем, уважаемый профессор! Вы Касьян Гогичайшвили, любимый наш педагог. Вы наша гордость! Пропустить ваши лекции? Как вы могли такое подумать! Мы их не записываем — глотаем! — Гурам был в экстазе.
— Ну-ка, расскажите, что вы глотаете? — остановил его профессор.
Гурам остолбенел, потом тряхнул головой, точно вытащенный из воды пес, и взглянул на меня. Чтобы не расхохотаться, я прикусил язык.
— Ну-с? — повторил профессор.
— С Барамидзе вы уже закончили, уважаемый профессор? — тихо произнес Гурам, одарив меня обворожительной улыбкой.
— Барамидзе подумает над вторым вопросом.
Гурам еще раз взглянул на билет, потом закатил глаза и стал искать ответ где-то вверху. Однако, не обнаружив там ничего, привел глаза в нормальное положение и вдруг спросил профессора:
— Можно переменить билет?
— Можно, — ответил со вздохом профессор.
Дрожащая рука Гурама скользнула по билетам, затем остановилась на одном из них и надолго застыла.
— Чичинадзе, кроме вас, мне нужно проэкзаменовать еще и других! — напомнил профессор.
Рука Гурама задвигалась, потом поднялась, захватив билет, и остановилась перед глазами. Гурам зашевелил губами, — видно, повторял вопросы.
— Ну-с, что скажете? — сказал профессор и нервно постучал по столу пальцами.
— Сколько можно переменить билетов? — спросил Гурам надтреснутым голосом.
— Дайте вашу зачетную книжку! — Профессор протянул руку.
Гурам обмяк.
— Не губите меня, профессор, стипендия пропадет!
— Стипендия? У меня, молодой человек, пропал друг, друг детства, и ничего, видите, я жив и здоров!
— Что же с ним стряслось, с несчастным? — растрогался Гурам.
— Чичинадзе! Дайте зачетную книжку! — повторил профессор.
«Спаси!» — попросили меня глаза Гурама.
— Уважаемый профессор, вы совершите несправедливость, поставив ему двойку. Мы всю ночь занимались вместе, — вступился я за друга.
— Молодой человек, я пять лет учился в Оксфордском университете с Чемберленом. Он стал премьер-министром Англии, а я сижу в Тбилиси и учу подобных вам идиотов. Ясно? — спросил профессор.
Всe было ясно, как солнце. Но Гурам не хотел отступать.
— Уважаемый профессор, представьте, что вы миллионер, — начал он. — Вы миллионер, и у вас несколько миллионов троек. Приходит к вам нищий и говорит: «Уважаемый миллионер, окажите милость, подарите мне одну тройку». Теперь представьте, что тот нищий — это я, и я прошу вас...
Я не выдержал диалога миллионера и нищего и, прикрыв рот рукой, выскочил вон.
В коридоре никто меня не остановил, никто не стал расспрашивать. Только Гулико молча проводила до конца коридора, но, не дождавшись от меня ни слова, отстала.
Я спустился по лестнице. Дойдя до нижней ступени, почувствовал на себе ее взгляд и оглянулся. Гулико стояла на верхней площадке, упершись локтями в перила, и, опустив подбородок в сомкнутые ладони, смотрела на меня.
— Чего уставилась? — огрызнулся я.
Гулико выпрямилась, покачала головой и ушла.
Я спустился в университетский сад, шлепнулся па скамейку. Девчурка, присев передо мной на корточки, маленькой лопаткой копала землю и посыпала ноги мальчика. Тот покорно стоял, словно молодой саженец, и улыбался. Девочка частенько посматривала на мальчика, проверяя, вырос ли он, и продолжала копать землю.
Мальчик тоже ждал, когда начнет расти, и улыбался, улыбался.
В саду стояла теплая майская погода.
Именно в этот теплый майский день расходная часть государственного бюджета благодаря моей двойке сократилась на 275 рублей и 40 копеек *.
* Имеются в виду денежные знаки до реформы 1961 года.
Стипендия относится к той удивительной категории денег, которую не назовешь иначе как божьим даром. Для меня, человека честного, всегда оставались неразрешимыми три вопроса: почему мне выплачивают стипендию, почему этот божий дар облагается подоходным налогом и почему с меня требуют плату за обучение? К тому же я был твердо уверен, что нет на свете человека, который бы нуждался в стипендии больше, чем я.
И вот теперь, лишенный стипендии, я сидел в университетском саду и взирал на маленькую девочку с бантиком, которая закончила посадку саженца и приступила к его поливке.
Мальчик-саженец взглянул на меня и улыбнулся.
— Как тебя зовут, мальчик? — спросил я.
— Его зовут Лаша, меня — Ия! — ответила девочка.
— А почему ты его поливаешь? Ведь он может простудиться.
— Чтобы вырос!
— Так мальчики не растут. Вот я, когда был маленьким, много ел и вырос большой, видите?
Девочка недоверчиво взглянула на меня.
— Что вы ели? — спросила вдруг она.
— Хлеб с маслом, молоко, кашу, пирожное... — начал я загибать пальцы. Дойдя до большого пальца, проглотил слюну и умолк...
— А теперь? — спросила девочка.
— Что — теперь? — спросил я.
— Что вы теперь едите?
— Теперь? Еще ничего. А что буду — не знаю, — улыбнулся я.
— Почему? — спросила девочка.
— Потому что потерял стипендию.
— Что?
— Стипендию!
— Где потеряли?
— Как — где?
— Ну, вы ведь сказали «потерял». Что вы потеряли?
— Ничего я не терял. Пошутил.
— Скажи, дяденька, что ты потерял?
— Перпетуум мобиле.
— Что-о-о?
— Пер-пе-туум мо-би-ле! — произнес я по слогам, полагая, что девочка не сможет повторить слово и отстанет.
Но свершилось чудо.
— Пермендумобиле? — спросил мальчик.
— Ого, как ты вырос! Хватит, вылезай из грязи! — переменил я тему беседы.
־— Не вылезай! Высохнешь! — велела ему Ия. Мальчик не сдвинулся с места.
— Дядя, ты сильный? — спросил он.
— Так, ничего себе.
— Ну-ка, согни руку!
Я согнул руку, напряг мускулы. Мальчик указательным пальцем пощупал бицепс и в знак одобрения икнул.
— Сильнее горы?
— Конечно!
— Сильнее медведя?
— Разумеется.
Дети облегченно вздохнули.
— А теперь хватит, ты уже большой! — сказал я Лаше, обнял его за плечи, приподнял и вытащил из земли.
Мальчик потопал ножками, стряхнул землю.
— До свидания! Дома, перед сном, поешь хлеба с маслом и утром встанешь большо-о-ой-большой!
Я поцеловал мальчика и опустил на землю.
— Уходишь, дядя? — спросил с сожалением Лаша.
— Ухожу. Ну-ка, покажи твои мускулы!
Мальчик согнул тоненькую ручку, напряг шею, затаил дыхание и уставился на меня. Я тронул пальцем его руку.
— Э, да ты, брат, оказывается, не шутишь! — удивился я.
Лаша расцвел в улыбке и взглянул на девочку.
— Завтра я буду еще сильнее: поем хлеба с маслом, — заверил он меня.
— Смотри, не подведи, пожалуйста! — попросил я мальчика и покинул сад...
По правой стороне Варазис-Хеви стоит дом. На четвертом этаже этого дома — моя комната. С востока и запада со мной граничат добрые соседи, с севера — гора мусора, сваленного для засыпки оврага, с юга — университет. Площадь комнаты — 26 квадратных метров, но в жилуправлении, с благородной целью снизить мне квартплату, площадь изменили на 20. Мебель комнаты — две кровати, один письменный стол, три стула и один шкаф. В шкафу — три с половиной тарелки, четыре стакана, столько же вилок и ложек. Что же касается вешалки — функции ее выполняю я сам: вся моя одежда на мне. Поэтому, уходя из дому, я вручаю ключи первому попавшемуся соседу или же оставляю дверь вовсе не запертой.
...С тяжелым сердцем поднимался я по лестнице. Дверь передней оказалась открытой. Я вошел в комнату и остолбенел. По телу пробежала дрожь, колени подкосились. Комната была полна соседей. Они окружали кровать, на которой сидела худая, белолицая, седая усталая женщина средних лет. Женщина, грустно улыбаясь, тихим голосом рассказывала что-то. Моего прихода соседи словно и не заметили. Женщина спокойно посмотрела на меня и продолжала свой рассказ. Соседи сочувственно покачивали головами. Женщина вдруг умолкла, уставилась на меня, потом взглянула на соседей. Соседи обернулись. В комнате наступила мертвая тишина. Я слышал биение собственного сердца и противный скрип стула. Больше ничего. Женщина не сводила с меня глаз. Потом она испуганно посмотрела на соседку Элико. Та утвердительно кивнула головой. Тогда женщина встала. Руки и губы ее дрожали. Она была удивительно похожа на ту, другую женщину, которая двенадцать лет тому назад здесь, в этой комнате, в четыре часа ночи разбудила меня, перекрестила и поцеловала в грудь. Потом ее увели двое мужчин, один из которых выглядел испуганным, а другой — с полным серебряных зубов ртом — улыбался.
