Андрей Павлович Ромашов
ЗОЛОТОЙ ИСТОК
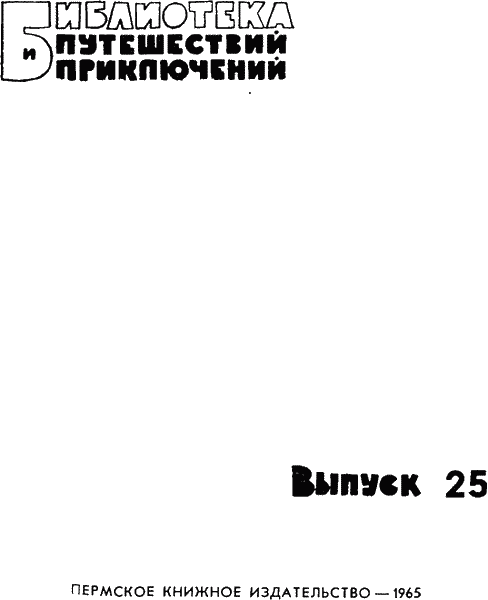



ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА
Яков проснулся рано… Через круглое волоковое окно полз в зимовку синий утренний свет.
Рядом, уткнувшись лицом в мох, спал Никифор, маленький и сухой, как подросток. Старик шевелил во сне пальцами.
— Опять ему деньги приснились, — догадался Яков. Толкнув Никифора в бок, он слез с нар и вышел из избушки.
Было уже светло. Только под старым кедром лежали на траве черные пятна — остатки ночи.
От дверей к Сорочьему Ручью тянулась дорожка из песка и гальки. По утрам она сильно пахла водой. Яков не сделал и пяти шагов по ней — загорелось золотое солнце над лесом, дорожка вдруг будто вспыхнула вся и заиграла разноцветными огнями.
Яков спустился в сухой еще лог.
Обжигая лицо, наскоро умылся в ручье и пошел обратно.
У дверей зимовки стоял на коленях Никифор.
— Давай, што ли, золотишко! — подойдя к нему, сказал Яков. — Успеешь богу зубы заговорить. Мне идти надо.
Старик вскочил на ноги.
— Чево давать, чево! — закричал он, прыгая перед Яковом. — Комиссаришь! Мое золото… Мое!
— Вестимо, твое…
— Неделю робил как проклятый. А ты скрадешь золотишко, и поминай как звали… Господи, спаси и помилуй!
— Дурак ты, Никифор. Чего бы красть? Много ли намыли…
— Скрадешь! Скрадешь! — не унимался старик.
— Заладил… Твое золото мне просто взять. Мякну тебя по башке и кончено. Мне — што ты, што комар — все едино. Только у меня совесть есть.
Никифор попрыгал еще, пошумел и успокоился: не раз ходил в поселок Яков с золотом и всегда возвращался, приносил, кроме харчей, то рубаху сатиновую, то новые сапоги ему. Дураком жил мужик на земле, не скупился.
Однажды Яков признался Никифору.
— Не уйти мне, — сказал он, — отсюда по своей воле. Околдовала меня жила, как девка красная…
Старик не поверил ему, но спорить не стал — выгоды не было. Колдовство это лучше веревки держало старателя на Сорочьем Ручье…
Все понимал Никифор, но без ругани отдать свое золото в чужие руки не мог. Поругавшись, он надел рыжие бахилы и пошел провожать Якова до Глушихи, большой и своенравной, речки.
От зимовки сразу начинался лес, глухой, мрачный… Никифор будто привык к нему, притерпелся. Из двух зол выбрал меньшее — лучше уж лес, чем коммунисты. Но сегодня лес показался ему еще неприветливее и глуше.
Он догнал Якова, толкнул его в широкую спину и спросил:
— А в Сибири комары есть?
Спросил так, без толку, чтобы голос человеческий услышать. Яков ему не ответил, и Никифор, обругав его «челдоном», начал думать… А думал он всегда об одном — кто такой Яков Дубонос? На счастье свел его господь с угрюмым старателем или дал всевышний промашку?
Встретились они прошедшей зимой, на собрании… Вспомнил Никифор холодный амбар; стены закуржавели от мороза, потолок весь в соленой паутине. Люди пришли на собрание прямо с работы, усталые, голодные, в мокрой одежде. Выступали по очереди, но каждый свое отстаивал. Особенно парень один старался, всех перекричать хотел… «Голубым назовем наш город, — орал парень, — в нем мечта наша о светлой жизни сбудется»… А в амбаре темно, холодно, от людского тепла пар над головами гуще тумана. Пожилые тоже кричали разное…
— Химградом назвать надо!
— Сосняками!
— Именем Ленина!
Никифор слушал их недоверчиво, думал: кого обманывают — себя или начальство?
До глубокой ночи спорили тогда строители, спорили весело, украшали словами жизнь.
Рядом с ним стоял огромный мужик в длинноухой сибирской шапке.
— Город — не тайга, — ворчал сибиряк, — в ем человек как в мышеловке.
— В чечки играют люди, — поддержал сибиряка Никифор. — Хозяина на них нет. Пошли, чево сказки ихние слушать!
На улице темно было, сыро и неуютно. Сверху небо черное, как опрокинутая сковородка, слева тайга подступает, справа тихо костры горят.
Прошли шагов десять. Никифор спросил:
— Как звать-то тебя, человек хороший?
— Яковом, — ответил сибиряк. — А фамилия моя — Дубонос.
— Крепкая фамилия… Гляжу я на мужиков, Яков, и диву даюсь — чему радуются? Завод хотят строить, каменный город топором да лопатой.
— Сила, однако, в людях немалая. Вижу… А меня в тайгу тянет, старик!
— По теперешним временам, Яков, только в лесу и спасаться от глупости людской… Бежать отсюда норовишь?
— Мне город не нужон. У меня от людей и шуму голова болит. Хвораю…
Подумал тогда Никифор, что дураком прикидывается сибиряк, но промолчал. Двоим бежать со стройки сподручнее. А бежать все равно надо.
На другой день он долго искал Якова на стройке, ходил от бригады к бригаде, залезал в котлованы, спрашивал:
— Дубонос, часом, не у вас?
Отвечали весело:
— Не водится. Дубонос — птица южная. В Киев поезжай, старый. Там и спросишь.
Вылез Никифор из котлована, огляделся: версты на четыре растянулись строительные площадки, людей копошится на них не одна тысяча. Легче иголку найти в стоге сена, чем Якова здесь.
Только через две недели увиделись они. Никифор шел из церкви и завернул по пути в гости, к знакомому солевару. У него сидел Яков, за столом, пьяный, и уговаривал хозяина:
— Ты мне поверь. Слово старателя крепкое!
Хозяин принес еще бутылку самогона. Никифор подсел к ним и спросил Якова:
— Уходишь?
— Не могу больше…
— Понимаю. Только куда уйдешь? Власть одна…
— Меня власть не касается… Весна скоро, старик. Из лесу смолой потянуло.
— Смолой, та-ак. — Никифор наклонился к нему. — Говори смело, не бойсь. Сам я уходить надумал отседова.
— Цыц! — рявкнул Яков, стукнув кулаком по столу. — Рассказывать буду… Попал я на Каму вашу по дурости и дошел, надо сказать, до бурлацкого положения, солью пропах, как селедка… Нанял меня в Перми хранцузский инженер золото да алмазы искать по таежным речкам. Было это до германской войны еще… Остановились мы, помню, в конце лета на речке Сорочий Ручей. Хранцуз наш прищурился, подергал себя за крючковатый нос и велел избушку ставить, на манер сибирской зимовки. Дело нам привычное — поставили, на моху, крепче избы. Обошел инженер нашу избушку, записал что-то в книжку себе и сказал: «Спасибо, господа, за труды. Завтра уходим»… Думаю себе однако: хитрит хранцуз, не зимовка ему нужна, а примета в тайге. На другой день едва рассвело — я к речке. Встал на колени, захватил пригоршню песку с самого дна, гляжу — два золотых таракана лежат… Кожа у меня на руках дубленая, мягче на подошвы ставят, а тараканов чувствую, тяжелые они, гладкие… Солнце поднялось, а я все на коленях стою перед Сорочьим Ручьем, не могу встать и только, будто прилип. Хранцуз меня, однако, в чувство привел, оттащил от речки. Оттащить оттащил, но колдовство снять ему не под силу…
Тогда и сговорились они бежать со стройки на Сорочий Ручей. В лесу жить, без командиров… На себя работать.
Который раз вспоминал Никифор обо всем этом, каждое слово Якова подолгу в уме держал, так и сяк поворачивал, а решить не мог — на счастье свел его господь с угрюмым старателем, или дал всевышний промашку?
За раздумьями не заметил, что лес кончился, что вышли они на старую гарь. Растянулась она вдоль реки верст на десять, как море зеленое. Пробежал ветер белесой волной по зеленому морю, ополоснул лицо Никифору, унес думы. Легче стало на душе у старика, догнал он Якова, за плечо тронул.
— Прости, ради Христа…
— Ладно уж. Отстань, — буркнул сибиряк.
Перед самой речкой поднимался стеной ивовый ерник, густой и путанный. Яков, видно, еще издали приметил лаз и нырнул в него. Никифор не полез за ним, сел отдыхать на мягкую траву. Сидел он по-стариковски неловко, вытянув уставшие ноги, слушал, как плещется вода о прибрежные камни, как треплет ветер листья… Сладко пахла налитая соками трава. Мужики сейчас к сенокосу готовятся: телеги мажут, литовки отбивают. В хорошее лето он с двумя батраками возов пятьдесят сена ставил. Скота было много… Завидовали мужики ему, кулаком считали…
— Был кулак, да разжался, пустая ладонь осталась, — сказал вслух Никифор и стер рукавом набежавшие слезы.
Неожиданно появился Яков.
— Чего сидишь! — закричал он. — Давай! Расстаться не можешь со своим золотишком?
Старик, не вставая, снял с шеи красный холщовый мешочек, покачал его на руке и бросил Якову.
Яков поднялся версты полторы вверх по бурной речке, спрятал лодку в кусты и сел отдохнуть под старую липу. Сколько раз сбрасывала она листья. Желтые, серые, красноватые — их было много тут… Там, где они лежали кучами, трава не могла подняться, а одинокие — висели на зеленой траве как высохшие цветы.
Яков сидел недолго, надо было идти: до озера еще верст двенадцать, а дорога — хуже не придумаешь. У реки густая осока и дудочник выше пояса, в старом лесу, где сыро, — там завалы да кочки, на сухих местах сквозь вереск не продерешься.
Он пошел берегом. Густая высокая трава еще не просохла, скрипела под ногами.
Солнце ползло к западу, Яков шел туда же. Трава хватала за ноги, мешок за спиной стал тяжелым, давил к земле. А много ли было в нем: семь пресных лепешек из кислой ячменной муки, два вяленых окуня, да неощипанная тетерка.
Увидав знакомый перекат, Яков спустился к реке, отвязал от пояса кружку, напился и сбросил мешок со спины. Вынув две лепешки и окуня, он сел тут же на берегу обедать.
Сверкая на солнце как отточенные ножи, выскакивали из воды быстрые хариусы. Они охотились за мотыльками и мухами.
До озера осталось не больше версты, но идти — топким болотом. Яков уже хотел ночевать здесь, на берегу бойкой речки, но, заметив, что мошкара летает низко, поднялся и надел мешок. Золотистые мушки и прочая мелкая нечисть перед дождем тяжелели. Ему не хотелось мокнуть, а у озера был добрый шалаш.
По краям болота рос хилый осинник и ломкая ольха, потом начались кочки. Они вывертывались из-под ног, и Яков несколько раз срывался в ямы с гнилой водой. Но поросшие желтым бесплодником зыбуны он замечал издали и далеко обходил их.
Солнце уже давно закатилось, когда Яков выбрался из болота на твердую землю. Он быстро нашел среди высоких черемух свой шалаш, сбросил со спины мешок, снял мокрые сапоги и лег на теплую траву отдыхать. Но скоро пошел дождь и загнал его в шалаш. Уснуть Яков не мог, лежал на спине с открытыми глазами, слушал, как звонко колотится о листья дождь, и думал… С семнадцати лет он бродит по тайге, с семнадцати лет ищет настоящую жилу. Пробовал Яков жить и в селе и в городе, но в марте начинал тосковать, ходил как потерянный, никого не замечая. Люди смеялись над ним и пытались его женить, чтобы удержать в городе. Но Яков женитьбы боялся. От молодой жены в тайгу не уйдешь, обидишь молодуху на всю жизнь… А женщин и ребят он жалел всегда и старался не обижать зря…
