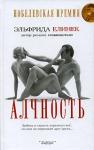Вопрос в том, как изобразить такой водный ландшафт, как у этого озера, толком не зная его языка. Я защищаюсь от невинности, с какой эта вода выступает на поверхность, и каждый остаётся при своём: она делает вид, что не может замутиться, но и меня ей не смутить. Это до ужаса застывшее, податливое Ничто, в которое погружаются вёрткие вёсла, однако, коснувшись поверхности, они тут же утрачивают свою расторопность, тяжелеют, страшась очередного погружения, а ведь оно могло бы продвинуть их дальше, так что я этого не понимаю. Они едва ворочаются в этом киселе, в этом желе, будто покрываясь гусиной кожей, они готовы остановиться и застрять в этом холодном водном пироге, торча в нём, как нож для торта, будто ведомый тяжёлой рукой невидимых, шумных крестьянских свадеб — женщин, разряженных в тонны нижних юбок, из-под которых того и гляди выглянут комковатые клубни стоп и пойдут раздавать пинки. Но даже они увязнут в густых зарослях камыша на берегу, и стопа в башмаке подломится, а зелёные деревья захотят смягчить её боль. Однако вода этого не допустит. Она не поведает вам ничего более приятного, чем я, можете готовиться к худшему! Почему именно вода была уготована этой выгребной яме? Даже эта вода тонет здесь сама в себе без единого вскрика. Эта вода не динамичный член движения природы, это абсолютно тихий и глупо остановившийся водоём.
По ту сторону дороги, на солнце, словно хорошенькими ручками заслонённая от всякого испуга, в баварской нарядной блузке герани гостиница с собственным садом, такая приветливая! Отсюда путь до озера кажется длиннее, чем он есть, это путь из света в темноту, в холод, в сырость, где каждый вдох стоит больших усилий, будто приходится его специально покупать; и детям почти всегда отвечают отказом на их просьбы покататься на лодке. Я бы сказала, и я это ещё не раз повторю, потому что вдруг под этим можно представить себе что-то вполне недвусмысленное: вода тёмно-зелёная до черноты, как максимум зелёная, как минимум чёрная. Колеблются волосы водорослей под её поверхностью, мёртвая чаща подбирается к самой воде, опоённая зельем зелёным трава льнёт к течению, которого не видно, поверхность лежит на виду, открытая, но не выказывает никакой откровенности. На противоположном от гостиницы берегу круто поднимается скалистый склон, молодые берёзки, лиственницы, ели и клёны на нём (без колышков для привязи, хотя было бы разумно привязать их там, чтобы вся эта жижа в один прекрасный день не сползла в воду, даже не ведая, что там её ожидает, — тупое и по большей части бессознательное, но злое, как всякая природа) не могут отражаться в озере. А почему, собственно, нет? Там просто всё время тень. Это озеро никогда не попадает в зону освещения солнцем, в этом его и туристов беда, но всё же деревья на горном берегу должны бы как-то отражаться. Почему же они этого не делают? Почему ленятся? В скале прорублена тропа, на которой часто можно видеть гуляющих. Они нас не достают, как в песне поётся: вперёд или назад или забыту быть. Это люди скромного достатка. Они не входят в мир богатых. Часто это семьи с маленькими детьми, с которыми в отеле не поселишься: они тут же снесут его. Но больше всего здесь пенсионеров, вечер жизни которых даёт им сполна насладиться всей телепрограммой, потому что им не надо вставать рано утром. Некоторые пансионы для приезжих здесь совсем недороги, еда хорошая и поступает из местных хозяйств, так точно, этот ландшафт энергично развивается, из него выжимают максимальную биоценность, чтобы не приходилось покупать выращенные на натуральных удобрениях фрукты и овощи, у которых навоз местной скотины уже из ушей течёт. На местную скотину, из своего хозяйства, тоже есть спрос, и забивают здесь максимум по шесть голов. Нет, не в футбол, а на местной маленькой бойне. Это не то что на больших бойнях, где десять поляков безжалостно набрасываются на живое, сокрушают его, потому что, по сравнению с их собственной жизнью, местные животные живут припеваючи, и вообще им что скотина, что человек. Лишь бы ещё раз нажраться, перед тем как взять в руки нож и под шкуру его, в мясо — хрясь! Есть ли у вас талант быть счастливым? Тогда ни в коем случае не растрачивайте его здесь!
Вот снова по этой узкой тропе идут два человека, нет, три, в походных брюках и горных ботинках на шипах, здесь можно пройти и на шпильках в случае чего, больших препятствий нет. Но всё же, экипировавшись подобающе для неотёсанных утёсов, получишь больше удовольствия, и стоит это не намного дороже. Это люди, которые и в гроб оделись бы удобно (чтобы можно было там не раз перевернуться), но всё-таки недорого для рая, чтобы их вообще туда пустили. Они поглядывают вниз на стоячее озеро, которое заглатывает солнце так, будто оно — пожизненная темница для солнца, и тёмная поверхность видится им похожей на ночную сельскую дорогу, где назначаются встречи. Другие предпочитают никого не встречать. Что я тоже могу понять, я сама принадлежу скорее к ним. Так, теперь люди снова ушли, потому что больше я их не вижу. Вода такая холодная, что, если извлечь её из ложа, мокрую, тут же и отшвырнёшь назад, даже не взглянув, чего поймал. Этой воде никогда не упасть на поверхность земли в виде осадков, уж она скорее осадит кого-нибудь как следует — из тех, кто уже неделю ждёт у моря погоды. Не вода, а чисто холод, в странной, аморфной форме. Будь вода проворнее, она бы выбралась отсюда самостоятельно. Глубина здесь не бог весть какая, но растения-силки, но падаль — просто затягивают на дно, которое я даже представить себе не хочу. Должно быть, неописуемо грязное, тёмное, холодное, безутешное, так сказать, место, на котором воды обморочны, но цепки, с частью своей памяти, которая не регулируется Альпийской конвенцией, призывающей нас не выгружать здесь вредные вещества, с частью, которая всегда начеку, — видимо, подстерегая своё собственное ужасное пробуждение. Я ни разу не видела на озере ни одной утки, — уж у них бы там вырвали жир из гузок, они бы только верещали, утаскиваемые под воду, так я себе представляю, потому что животных я люблю и не хочу, чтобы они имели печальный опыт. Ну, они и сами его не хотят. Они, как мне кажется, никогда не опустятся на эти воды, застывшие в ужасе оттого, что их вылили сюда, а не туда, на другую сторону дороги, где гостиница, куда достаёт солнце, но и там, солнечно или несолнечно, а холодает рано из-за того, что вокруг горы, и люди достают куртки и жилетки. Там утки уже лежат на тарелках. Маленький лодочный причал, но для чего он? Если тут никто даже не ходит вдоль берега. Ну, заранее этого не могли предвидеть, когда в служебном рвении заказывали лодки, раздавали вёсла и тренировали выносливость, когда списывали потери первых месяцев. Иногда здесь видно и слышно детей, но они внезапно смолкают и смотрят на воду, совсем не такую, как им обещали, — лицо, которое при ближайшем рассмотрении оказывается зловещей рожей, сеть, в которой запутаешься. Никаких ярких купальников, водных мячей, надувных зверей, надувных лодок; всем этим озеро не балуют, оно лишено разнообразия и потому не может его предложить. Оно не может облечься в шелестящий пенный пеньюар, поскольку эта металлическая вода не даёт себя ни взволновать, ни тронуть. Мне кажется, было бы слишком близоруко списывать всё на недостаток солнечного облучения, Уж во всяком случае в соляриях этого облучения полно, а люди от него не стали лучше. Чтобы улечься в блистающие гробы соляриев, туда идут лишь люди, которые сами хотят изменить цвет своей кожи. Втайне они догадываются, что всё равно останутся такими, какими созданы. Кто попадает в воду — нет, спасибо, как сказал бы громко и отчётливо Франц Фукс, бомбист и четырёхкратный цыганский убийца из Граллы, это в шестидесяти пяти километрах отсюда, тем самым избавив себя от долгого судебного процесса и использовав всё это время для наслаждения покоем в камере. Перекричать свои бомбы он не мог. Я так и так его не слышу, а теперь он ещё и мёртв. Он повесился. Эта вода напоена собой, это звучит парадоксально, но это правда, насколько что-то может быть правдой. Это, так сказать, дважды вода, и от этого она уже снова твёрдая, безнадёжно твёрдая для стихии, жаждущей знаний и желающей дальнейшего образования, хотя возможностей у неё для этого мало. Можно сделать себя больше, если постараться, но для этого нужно всё время оставаться на плаву, то есть стелиться горизонтально. Ватерпас, который не хочет стоять и замеряет только лежание, тоже это знает, — ох, теперь уж это не так, теперь им можно замерять и отвесное. Я думаю, эта вода кислая (но может быть и основной), потому что никто особенно не рвётся стать ей подходящим партнёром — в игре, в спорте и в удовольствиях. Она отвергнута и обиженно удаляется восвояси. Даже мать этой воды, поистине низкая, заново сооружённая стена задержания, если смотреть от меня, то справа, на которой ещё не выросли обычные побеги дикой берёзы, ивы, трава вперемешку с одуванчиками, дикий фенхель, мать-и-мачеха и борщевик (или это одно и то же?), лишь много раз постучавшись, может ступить в эту воду, в которой явно делаются страшные вещи и в форме упорных, неразрывных силковых и плёточных растений и водорослей уничтожается всякая другая жизнь. Лишь безжизненная жизнь здесь позволительна. Кто это там рвёт своими крыльями небо на части? Вот вам первые крупные кандидаты, вороны, они просто вездесущи, но на берегах этого водоёма их нет. Значит, и ничто другое здесь не выживет. Он — исполинская незначительность, кто ж это выдержит? Кто захочет быть замеченным в этакой среде? Может, в ней есть три тысячи различных сортов водных растений, но я их не знаю, это бурная, неуничтожимая жизнь, мне бы не хотелось считать её сорта, тогда бы мне пришлось над нею нагибаться, а то и вовсе спонтанно, необдуманно отдаваться этой воде, а такого я ещё не делала.
О, как красиво, солнце как раз пошло погулять на крутом берегу! Но так мало, что темнота, которой я тут же была наказана, показалась мне ещё темнее. На другой стороне озера на мгновение вспыхивают окна гостиницы, значит, около пяти часов — время, когда солнце, в это время года безобидное, как спящий младенец, решительно больше ничего не может, кроме как встать, расплатиться и начать покидать гостиничный сад — начало, которое тут же и покидает тебя. Большинство гостей и так сидят внутри, потому что снаружи ещё очень холодно. Нечто похожее происходит и на сельской дороге, которая тоже охотно, хоть и бегло, знакомится с шинами машин; они быстро приникают друг к другу, могли бы подружиться, но уже пора, пожалуйста, следующий, чтобы резина об неё потёрлась, облысела и отжила своё. Эти шины всегда оставляют от себя лишь дуновение, фук, или мёртвого, в том числе мёртвых животных: кошек, змей, ежей, зайцев, даже косуль и оленей, которые будут потом отброшены на обочину пира жизни, задавая, со своей стороны, пир для червей и муравьев. Солнце скоро скроется. Поднимется ветер. Вода в озере (кажется, одна только я остаюсь на месте, неутомимая в моём изобразительном раже!) от этого едва закурчавится, — где же они, грациозные волны, уж могли бы быть хоть чуть-чуть позаносчивей. Или они окаменели от страха? Смолкли сами перед собой, оттого что нет у них нежного, милого лица, которое они могли бы поднять, чтобы рассмотреть друг у друга и одобрить? О гостинице мне хотелось бы знать больше, а вот на кухню я не хотела бы заглядывать до того, как поем, а потом тем более. Экскурсанты всё ещё плетутся мимо неё, проезжают велосипедисты с таинственными, редкими металлами, из которых состоит их спортивный инвентарь, поблёскивают на солнце отражатели, а их задки не могут вызвать одобрительных желаний — слишком скоро, на наш взгляд, они снова скрываются. Что ещё? Там, напротив, дорога идёт к альпийским источникам (на велосипеде четверть часа, пешком — смотря как), дающим воду для венского водопровода, — достопримечательность, которая достойна того, чтобы посетить её, но вот приметить её больше нельзя. До забора источников это была красивая цель экскурсии, теперь вода, к сожалению, остаётся дома, а дом у неё построен, по мере её запросов, из камня и бетона — и, почём мне знать, из керамических труб? — и, как всё, что долго сидит дома, больше не интересно ни для какого примечания. Слышно, как она журчит, слышно, как она шумит или что уж там она делает, но больше нет ни игры света, ни бурной радости, ни радужной пыли, ни спешки по камушкам, ни кипящего извержения из земли, не сидеть нам на корточках, брызгаясь водой. Вода теперь по-настоящему схвачена, в трубе, и в городе она течёт в наши стаканы и кастрюли, так откуда же у меня берётся чувство чего-то неправедного? Каково бы мне пришлось, если бы мне пришлось вместо этого давиться грунтовой водой с питательными нитратами из Миттерндорфской низины!
Так. Семьи понемногу пускаются в обратный путь. Маленьких детей заталкивают в коляски, отряхивают руки, находят свои парковки и, шелестя гравием, снова покидают их, — живое, что и так-то с трудом удаётся удержать вместе, стремится окончательно разойтись. Те, кому нужно оставаться вместе, связываются в пучки, которые скоро снова растеребят, они ждут не дождутся этого, пары, прохожие, родственники сортируются и добровольно складываются в паззлы, где они разумно совмещаются с их часто весьма непривычными хобби. Плавание, теннис, лыжи, туризм. Они осматривали эту местность, а то и вовсе в ней живут и должны проделать лишь небольшой путь, в основном на велосипеде, чтобы вернуться домой. Но велосипеды аборигенов, обычаи которых состоят в том, что им вечно нужно что-то, что уже есть у приезжих, эти колёсные козлы, совсем другие. Это предметы простые, без спортивных амбиций, куда уж им. А горные велосипеды и их весёлые владельцы в их смешных нарядах неразъединимы, как пальцы одной руки. Их много, они только мелькают; нам, стоящим, они говорят «прощай» ещё до того, как нас увидели. Что же делать здешним, если они уже искали эти вещи в торговом центре районного города, сначала среди распродаж? Ведь дети деревенских живьём вырежут из своих родителей смелые имитации гоночных велосипедов и будут за это (чаще, чем городские дети) биты, потому что так много на них потрачено. Тела на взрослых велосипедах образцово упакованы, часто даже в национальное, баварское, чистое, хотя всё чаще видишь на телах горцев шорты и спортивные куртки. Недостойное время, куда ты гонишь твоих жителей, к чему ты их подгоняешь, если им некуда поехать? Но не обманывайтесь, хоть я то и дело пробую провести какой-нибудь обман, чтобы упростить себе дело, многие уезжают далеко, в такие края, где я, например, никогда не была. Но я вообще пока что нигде не была, не потому, что там меня могут опутать какие-то грехи, а потому, что грешить лучше дома, где Бог даже о грозе предупредит меня заранее по телевизору, медленно, чтобы можно было записать, по грехам ли кара. Грехи наши тяжкие, зачем же ещё и сюрпризы.
Итак, дети будут увешаны добычей, которую им навязали их родственники или они сами выпросили. А когда у кого-то на них зла не хватает, их рёв доносится аж до озера, но не дальше, озеро — это предел. Оно заглатывает всё. Это я уже говорила, но это продолжает назойливым образом занимать меня: обычно дети любят собираться у воды, они там плещутся, ищут камешки и кидаются ими друг в друга, брызгаются, карабкаются на надувные матрацы или надувных животных и зачарованно смотрят вдаль, где такие животные нет-нет да и канут в воду беззвучно, или куда лодки убегают от них в последний путь, чтобы заняться гимнастикой на волнах. Они выклянчивают деньги для катания на лодке, дети, лучше всего на педальной, она абсолютно никогда не переворачивается, здесь таких три, но вид у них совсем заброшенный. На дне болотится немного стоячей воды, мутной, грязной, и как она попала внутрь? Для течи её маловато, для баловства водных озорников — многовато. Лодки однозначно запущены, мне это ясно, но чего они ждут, если никто не хочет на них кататься? Наверное, скрип стоит, если нажать на педали этого, как его, ну, как в фисгармонии, только здесь не органные мехи, а вид лопастного гребного колеса из пластика, — итак, если эти штуки привести в действие, лодка задёргается и рывками двинется вперёд, хоть бы смазали разок эту балясину! Там есть даже руль, как у скутера, с которым могло бы не повезти. Как уже случалось со знаменитыми на весь мир людьми, мужьями, отцами. Младших братьев можно припугнуть, садясь в неё и отплывая, мол, лодка сейчас непременно затонет, потому что долго ей на воде не продержаться, но я-то хоть умею плавать, а ты пока нет, вот. Такие речи вести можно, но здесь их никто не ведёт, это было бы лишним. Не говорят о вещах, которые обычно принимаются только в письменном виде, поскольку здешние люди записаны у жизни не на очень хорошем счету. Если давать им в кредит, так только по записи. Дети в общественном саду, правда, напрямик топают к горкам и качелям, откуда можно катапультироваться прямо в навозную кучу — где роются куры и где огурцы и тыквы пока что сами от горшка два вершка, — если наловчиться и если родителям надо сперва посмотреть рекламу по телевизору, а потом запустить стиральную машину, но они всегда возвращаются очень скоро. Этих расплющенных экраном, ярких и вечно весёлых родителей, которые без конца стирают, они знают лучше, чем собственных, у которых на это совсем мало времени, но новые моющие средства и не требуют затрат времени, всё происходит в мгновение ока и по мановению руки. Телевизор тоже под рукой, он стоит в кухне-столовой. Может, родители только потому запрещали детям одним переходить трассу, чтоб они не попали на озеро? Нет, никаких шансов, я никак не могу чего-то постичь в этом великом озере, — ну, не такое уж оно и большое, скорее маленькое, по сравнению с Байкалом, который тоже уже не тот, что раньше. Родители могли бы пойти вместе с детьми, ведь не такие уж они жестокосердые, чтобы запретить детям кататься на лодке, это очень дёшево и даже ещё подешевело. Выход есть всегда, только у озера я лично выхода не вижу. Вида нет никакого. Поначалу все радовались, что теперь и у нас есть озеро, такое таинственное и красивое, это привлечёт сюда приезжих и окажет им гостеприимство, а некоторым последние почести, но потом озеро занемогло, и не могли ничего сделать. Почему бы не вылить туда проверенные добрые альгициды? Вдруг бы исчезли альги, водоросли, но тогда бы озеру пришлось переварить и гербициды, а у него и без того несварение желудка: водоём мертвее мёртвого. И искусственная вентиляция, если бы мы могли её себе позволить, привела бы лишь к временному успеху, потому что если бы озеро однажды задышало, оно уверовало бы в присутствие духа. Вода надменна, ничего не поделаешь. Поэтому пусть лучше будет неуравновешенным, да? Пусть уйдёт, хлопнув дверью, тогда мы могли бы рядом сделать новое, вот именно, прямо рядом, нет, лучше вон там, напротив. Как это будет? Многие будут против. Чуть дальше вверх по реке есть большая запруда для местной электростанции, но там ничего не выйдет. Там вода должна работать, у неё нет времени для игр и спорта. А ради удовольствия ведь не станем же мы проделывать взрывчаткой ещё одну дырку в мире, а?
Странно для водоёма сбивать людей с пути истинного, приковывая к себе почти невольное внимание, но ведь он любому мог преподнести любые неприятности — я имею в виду селевые потоки и наводнения, которые всю прошлую неделю гоняли по телевизору, а вот ещё обрушенный край дороги, после того как катастрофы, со своей стороны, преследовали целые деревни и парковки и вода чуть не дошла до одной гостиницы, в которой кровати терпеливо, почти бездоходно, ждали, раскрытые, словно сберкнижки, поскольку сезон был уже на носу. Так одно гонится за другим. Можно было бы, завидев воду, вспомнить и о спортивном разнообразии, можно было бы выйти из машины, достать с багажника на крыше сёрфинговую доску, и пошло дело. С дорогами и колёсами мы ведь делаем то же самое, мы орудуем своими спортивными снарядами, и природу это начинает понемногу нервировать, она берёт нас на прицел своего орудия, её палец уже дрожит на спусковом крючке, но, поскольку мы двигаемся быстро, она надолго теряет нас из видоискателя. Наше счастье, но сваливать в итоге всегда приходится нам. Так, но теперь она нас, к сожалению, нашла, природа. Каждый уголок этой воды, каждое место на дне гор что-то покинуло и больше не находит дороги назад. Может, что-то было выброшено из железосодержащих красных скал Штирии, которые не хотели снова наполняться, а хотели хоть раз насладиться перспективой, но если уж наполняться, то не водой, а пусть бы вином или пивом, тогда было бы не так трагично! Сейчас мы как раз бурим новую дыру в другом месте, чтобы прорыть под всем Земмерингом туннель, но и там нас встречает вода, которая была здесь раньше нас и имеет преимущественные права по старшинству. Это не располагает нас остаться, и тут же находятся те, кто больше не хочет дыру. Вода в скале — будьте любезны, в следующий раз уберите это, Господь Бог! Лучше налейте воду в этот ковш, она нам пригодится! Природозащитники играют свои весёлые комические роли, но когда-то и они исчезнут с лица земли, под которой животные, с трудом — ведь у них такие маленькие ручки, — всё снова перероют.
Итак, от этой воды сюда не доносится ни милых или визгливых голосов, ни ругани отца семейства или причитаний задёрганной матери; шлепки оплеух были бы мне больше по сердцу, чем эти зловещие духи воды, эти глаза воды, которые вперяются в меня, эти губы воды, которые хотят меня заглотить, ну, уж это они слишком много хотят! Я вешу добрых шестьдесят кило.
Стемнело и стало ещё холоднее, оставшаяся с зимы, рассыпанная против гололёда на дороге мелкая крошка взлетает вверх, когда по ней кто-то проезжает, и никого бы не устроило остаться здесь, всем хочется в тепло кухонь и харчевен. Люди покидают волю и бегут, как в последнее убежище, в неволю своих семейств. Их ждут за столом; велосипеды, скейтборды и горные ботинки останутся за дверью или в подвале. В блаженном омертвении отцы семейств берут себе жаркое, последнее отчаянное средство, подкреплённое всемогущим дуплетом вина, которое снова должно вернуть их к жизни, — чудо, что они не теряют надежду. Природа, которая обходится с нами сурово, тоже делает перерыв. Так мы называем всё, что вынуждено остаться снаружи, и природа спекается в буханку из темноты, холода, горного ветра, горных потоков, камня и постоянства (да-да, растения, в определённом для каждого из них вегетативном подразделении, по ним можно часы сверять!) и пожирается нами и прочей скотиной. Успешный опытный образец природы, чего бы я в него ни приписала, заново пересочиняя всё, уже описанное, всё равно получится хорошо, да? Милости просим, входи, бесценное ты наше сравнение горного озера с бриллиантом в оправе гор, как хорошо я знаю тебя, укладывайся! — нет, только не на ноги мне! Земляничные склоны и плавучие эскадры рыб, заросли елового молодняка, у которого, к сожалению, уже отмирают нижние ветки — мутанты, созданные турагентствами, чтобы приезжие лучше видели грибы под ёлками, но и грибов там больше не просматривается, потому что земля задохнулась под полуметровой толщей иголок, как Саломея под щитами воинов. Тоже, пожалуй, неизгладимое впечатление, но мне бы это было нипочём. У озера мы сейчас не видим, потому что мы ведь не там, следующее: линия подпора, то есть где водная гладь переходит в коагулят, палки, поскольку для укрепления берега в почву ничего не вогнали, а наворотили из скал камня, набросали; отгородили всё это ширмой камыша, или он сам по себе постарался, этот странствующий лес, прикрывая глыбы своими зелёными карандашными телами. Что живёт под водой? Заглянем. Под водой больше нет ничего живого. И незачем выкидывать туда ещё больше мертвечины!