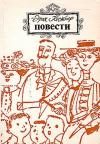«Моралист» Фабиан, который лишь поверхностному взгляду может показаться циником, обнаруживает духовное родство с лучшими героями детских кестнеровских книг: он сохранил подлинную память о детстве. А это означает, как пояснял однажды писатель, способность «вдруг, без долгого размышления вспомнить, когда понадобится, что настоящее, а что фальшивое, что есть добро, а что зло».
При всей своей внешней разноликости творчество Кестнера внутренне едино. Единство это проявляется и в стиле, который характеризуется, как говорил сам автор, стремлением к «искренности чувства, ясности мысли, простоте слова и слога». Особо стоит выделить черты, которые Кестнер называет среди достоинств «настоящего учителя» и которые присуши ему как писателю: «юмор и понимание». Юмор родствен пониманию, он дает взгляду высоту, способность подняться над сиюминутными столкновениями и неурядицами, над мелочным и преходящим. Думается, именно в нем главный секрет обаяния лучших кестнеровских книг. Можно говорить об увлекательном сюжете «Эмиля и сыщиков», об удачной выдумке в «Мальчике из спичечной коробки». Но сюжет, глядишь, порой буксует, выдумка может себя исчерпать — самым интересным неожиданно оказывается совсем другое. Например, когда в повестях об Эмиле слово просто «предоставляется картинкам», и эти бессюжетные описания или рассуждения читаются с истинным удовольствием. В повести «Когда я был маленьким» вообще нет ни сюжета, ни вымысла. Главное ее очарование — в словесной ткани, в самой атмосфере книги, умной, доброй, ироничной. Рассказывая о старом Дрездене с его прекрасными улицами и зданиями, писатель произносит исполненные глубокого смысла слова: «Не из книг узнавал я, что такое красота. Мне дано было дышать красотой, как детям лесника — напоенным сосной воздухом». Лучшие книги Кестнера тоже как бы напоены легким воздухом юмора и понимания; вдыхать его благотворно.
Первый бурный успех Эриха Кестнера длился не так уж долго — около пяти лет. В январе 1933 года к власти в Германии пришли фашисты. Когда произошел гитлеровский переворот, Кестнер отдыхал в Швейцарии, но решил вернуться домой. Друзья, только что бежавшие в Швейцарию из Германии, с недоумением и ужасом пробовали его отговорить. Антифашистские, антимилитаристские настроения писателя были слишком широко известны. Ему могли припомнить многое — хотя бы стихотворение, словно предвосхищавшее то, что реально происходило сейчас в стране:
Когда бы мы вдруг победили
Под звон литавр и пушек гром,
Германию бы превратили
В огромный сумасшедший дом…
Тогда б всех мыслящих судили
И тюрьмы были бы полны…
Но, к счастью, мы побеждены.
{Перевод К. Богатырева.}
О каком-либо сотрудничестве с режимом для такого человека, как Кестнер, не могло быть и речи. И все-таки он вернулся. Тому были разные объяснения. Он позже называл себя «деревом, которое в Германии выросло и, если придется, в Германии и засохнет». Он говорил: «Я остался, чтобы быть свидетелем». Решающим, возможно, было убеждение, что все это ненадолго, что гитлеровская диктатура скоро потерпит крах и он, писатель, сможет рассказать об этом как очевидец. Увы, в оценке положения этот ироничный трезвый человек на сей раз ошибся. Ждать пришлось целых двенадцать лет, трудных, опасных, в литературном отношении неблагодатных.
Все пишущие о Кестнере, конечно же, упоминают эпизод, когда 10 мая 1933 года на берлинской площади Оперы бросали в костер его книги — вместе с книгами Генриха Манна и Эриха Мария Ремарка, Альфреда Деблина и Бертольта Брехта, Максима Горького и Эрнста Хемингуэя. То была действительно горькая честь — оказаться в одном списке с лучшими представителями немецкой и мировой литературы. Менее известно, что Кестнер, единственный из «сжигаемых», явился «лично присутствовать на этом театральном представлении». «Я стоял перед университетом, — вспоминал он после войны, стиснутый среди студентов в форме штурмовиков (цвет нации!), смотрел, как в трепещущее пламя летят наши книги, слушал слащавые тирады этих мелких отъявленных лгунов». Каждый акт этого средневекового аутодафе сопровождался ритуальными выкриками: объяснялось, за что именно предаются огню те или иные книги. Кестнер попал в одну «обойму» с Генрихом Манном: «Против декаданса и морального разложения! За добропорядочность и нравственность в семье и государстве!» Можно ли было откровенней и саморазоблачительней продемонстрировать собственное лицемерие, убожество и примитивность интеллектуального и нравственного уровня! Какая-то женщина в толпе узнала Кестнера, крикнула: «А вот и он сам!» Писателю стало не по себе.
В тот раз все обошлось. Арестовали Кестнера позже, доставили в гестапо для объяснений по поводу стихов, появившихся в эмигрантской печати. (В гестапо его встретили насмешливыми возгласами: «А, вот и Эмиль, и сыщики!») Удалось как-то выпутаться. Тем не менее в 1934 году было объявлено, что Кестнеру, как элементу «нежелательному и политически неблагонадежному», запрещено впредь заниматься литературной деятельностью. (За год до того он еще успел выпустить повесть «Эмиль и трое близнецов».) Позднее запрет был несколько смягчен, писателю разрешили издать несколько книг за границей, главным образом в Швейцарии. Это были далеко не лучшие из кестнеровских работ, хотя и среди них есть интересные. Например, «Пропавшая миниатюра» (1935) — история, как некий бравый мясник помогал своему земляку-берлинцу доставить в столицу ценную миниатюру; миниатюру, конечно, украли в пути; потом, впрочем, выясняется, что украдена была лишь копия, и все заканчивается благополучно. Чем-то это напоминает «Эмиля и сыщиков». В эти годы был осуществлен, среди прочего, пересказ для детей знаменитой народной книги о Тиле Уленшпигеле, написан сценарий о бароне Мюнхгаузене, по которому поставили фильм, пользовавшийся большим успехом. В 1943 году запрет на литературную деятельность был возобновлен уже окончательно.
Своеобразным документом тогдашней изоляции и одиночества стали кестнеровские «Письма самому себе». «Ты когда-то писал книги, надеясь, что другие люди, дети и те, кто уже перестал расти, узнают из них, что ты считаешь хорошим или плохим, красивым или безобразным, смешным или печальным, — с горечью размышлял этот „правнук немецкого Просвещения“. — Ты надеялся принести пользу. Это была ошибка, над которой теперь можешь лишь снисходительно усмехаться… Ты напоминаешь человека, который пробовал уговорить рыб, чтобы они выбрались, наконец, на берег, научились бегать и убедились в преимуществах сухопутной жизни».
Лишь позже, после войны, Кестнер узнал, что старые его книги все эти годы продолжали, несмотря на запреты, ходить по рукам. Его стихи переписывали от руки в Варшавском гетто, и даже в армейских казармах читали тайком «Ты знаешь край, где расцветают пушки» и «Голоса из братской могилы»:
Четыре года эта бойня длилась,
Четыре года длились, как века.
Строки, написанные о первой мировой войне, обретали новую, неожиданную злободневность.
Самого писателя еще раз доставляли в гестапо для объяснений. Он приспособился уклоняться от опасностей: когда в Берлине усиливалась волна арестов, переезжал в Дрезден, где по-прежнему жили его родители, и наоборот. Однажды, предупрежденный знакомыми об угрозе, он покинул Дрезден, едва приехав, — это было за несколько дней до того, как город был полностью разрушен англо-американской авиацией (родители выжили). Впоследствии Кестнер опубликовал дневник с записями 1945 года, где рассказывал о своей жизни в эти месяцы, когда агонизировал гитлеровский режим.