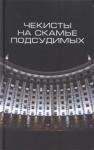Его употребление в другой трактовке наталкивается вплоть до сегодняшнего дня на предубеждения, в том числе в государствах — бывших советских республиках. Несомненный недостаток этого термина заключается также в том, что его нельзя без оговорок применять для описания всех категорий лиц, на которых лежит ответственность за репрессии, то есть в отношении Сталина, партии и государственного аппарата. И все же, пока историография не выработает более адекватный термин, я предлагаю использовать понятие «каратель» в значении «преступник», «сотрудник государственных карательных органов, непосредственно участвовавший в репрессиях».
В общем и целом в историографии карательных органов (госбезопасности и милиции) времен Большого террора можно выделить несколько основных направлений. Представителем первого направления (это преимущественно историки, имеющие отношение к ФСБ или к учебным заведениям системы ФСБ), можно считать Олега Мозохина. Он бывший сотрудник Центрального архива ФСБ и член «Общества изучения истории отечественных спецслужб». Мозохин стремится в первую очередь спасти «честь мундира» спецслужб, что вполне закономерно, учитывая очевидную для России тенденцию реабилитации сотрудников НКВД, осужденных в 1937–1941 и 19541961годах[34]. В полном соответствии с названием своей монографии «Право на репрессии» Мозохин выступает против недопустимой, с его точки зрения, криминализации органов государственной безопасности. Он пишет о том, что госбезопасность получила свои «внесудебные полномочия» от верховных законодательных органов государства[35]. Таким образом, Мозохин сводит роль органов государственной безопасности к чисто исполнительной[36]. Он прав, когда ссылается на то, что создание таких внесудебных органов, как Особое совещание, «двойки» и «тройки», в которых НКВД играл доминирующую роль, осуществлялось на основании законодательных актов или решений Политбюро ЦК ВКП(б). То же самое справедливо в отношении многочисленных приказов, директив и инструкций, которые сопровождали и направляли работу «органов». Однако Мозохин слишком уж явно тщится защитить госбезопасность от возможной критики. Осуществление и рост масштабов массовых репрессий, да и сам Большой террор, предстают в его описании прежде всего как, возможно, чересчур резкая, однако легитимная реакция политического руководства на внешнеполитические и внешнеэкономические угрозы. А во вторую очередь — как следствие борьбы за власть внутри советской политической элиты (речь идет о «левом» и «правом» уклонах в партии)[37].
Для Мозохина фоном и контекстом репрессий является пси* хическая предрасположенность Сталина к насилию, его борьба за единоличную власть, равно как и его стремление установить бю* рократическую систему управления[38]. В то же время непосредственно внутриполитические факторы, включая повседневное подавление сопротивления и инакомыслия в обществе, осуществление государственного контроля, упоминаются Мозохиным мимоходом. Инициативы НКВД по борьбе с «врагами народа», равно как стиль и методы деятельности чекистов, практически не находят у Мозохина освещения. Таким образом, он игнорирует собственную заинтересованность органов госбезопасности в репрессиях, замалчивает свободу действий, которую они имели, а также отрицает совокупную ответственность госбезопасности и милиции. Когда же эту щекотливую тему избежать не получается, как в случае с массовыми операциями, то НКВД обеляется: якобы основная масса сотрудников подвергалась давлению со стороны партийного и собственного руководства; их обманывали, натравливали и даже принуждали к «нарушению социалистической законности»[39]. Остальные авторы, принадлежащие к этому направлению в историографии, еще более откровенно стремятся оправдать чекистские органы. Они утверждают, что НКВД выполнял противоправные приказы, поскольку у чекистов не было другого выбора. В случае отказа от проведения массовых репрессий сотрудники НКВД сами бы стали жертвами.
Другой вариант оценки карательной деятельности НКВД предлагал российский историк Виктор Данилов, утверждавший, что в органах НКВД существовало серьезное сопротивление подготовке и проведению массовых репрессий. Из факта ареста в июле 1937 г. ряда высокопоставленных сотрудников НКВД Данилов делает вывод, что причиной этих арестов послужил дух сопротивления, якобы свойственный чекистам, которые не забыли о негативном опыте коллективизации и индустриализации 19281933 гг.: «[…] в этой среде было нежелание участия в кровавой расправе с тысячами невинных людей»[40]. Ряд других авторов полагает, что критическое отношение к террору имело место даже на низших ступенях иерархии НКВД, что привело к стремлению Дистанцироваться от спущенных сверху приказов. Эта позиция создает впечатление, что сотрудники НКВД низшего звена правильно «расшифровали» преступные намерения руководства, однако ничего не могли поделать против репрессивных приказов, спущенных сверху[41].
Третье течение представляют российский историк Алексей Тепляков (Новосибирск) и украинский историк Вадим Золотарёв (Харьков). Они применяют двоякий метод: с одной стороны, реконструируют биографии ведущих представителей органов госбезопасности Сибири и Украины[42]. С другой — исследуют механизмы террора[43]. Используя аналогичный подход, Александр Ватлин (Москва) опубликовал исследование в жанре микроистории[44]. А. Тепляков, анализируя «психологию, обычаи и нравы» чекистов, пришел к выводу о клановой структуре, свойственной органам госбезопасности. Он описывает не только систему патроната и персональной клиентелы, но и коррумпированность органов, готовность чекистов прибегнуть к издевательствам и пыткам, равно как и к фальсификациям материалов следствия. Лояльность чекистов по отношению к режиму обеспечивали система привилегий в комбинации с боязнью в любой момент самим превратиться в жертву[45]. Золотарёв создает свои работы преимущественно в биографическом ключе, хотя и пытается делать это в рамках институционального подхода.
«Каратели» рассматриваются в историографии в первую очередь как составная часть и обезличенный инструмент государственных и партийных метаструктур. В том числе сам автор настоящей статьи, описывая роль секретаря тройки на примере УНКВД Алтайского края, фактически затушевывает индивидуальные особенности и действия конкретного человека, в результате чего возникает, хотя и непреднамеренно, образ безучастного кабинетного преступника, лишенного каких-либо эмоций. Только в отдельных случаях историкам удавалось нарисовать образ советского «карателя» как индивидуума. Когда же это происходило, то речь шла почти исключительно о чекистах, которые выделялись из общей массы своим особым энтузиазмом в осуществлении репрессий, цинизмом, выдающимся организаторским талантом и т. д. В итоге в историографии доминируют исследования, посвященные этим «исключительным» личностям. Что же касается «среднестатистических карателей», то из-за дефицита источников до сего времени были написаны только два портрета: речь идет об А.Г. Агапове, начальнике РО НКВД Солтонского района Алтайского края, и В.Д. Качуровском, сотруднике КРО УНКВД по Новосибирской области[46].
До настоящего момента в области историографии репрессий сделаны лишь первые осторожные шаги в новом направлении, вне рамок доминирующего подхода изучения «карателей» как составной части карательных институтов. Сегодня историки стали обращать внимание на социологические (социальное происхождение и актуальное социальное положение), ситуативные (модус вивенди в определенной обстановке) и индивидуальные аспекты. В свою очередь, это поставило исследователей перед необходимостью изучать механизмы прекращения массовых операций НКВД. Это обусловлено тем, что важнейшим рычагом, позволившим сначала затормозить репрессии в конце лета 1938 г., а потом и окончательно остановить их, стало обвинение в «нарушении социалистической законности», выдвинутое в адрес активистов и «передовиков» репрессий. Целый ряд постановлений, директив и приказов цинично обвинял органы госбезопасности в «эксцессах» и «перегибах», отведя им роль единственного козла отпущения. Новый народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия выступил от имени НКВД с самокритикой, а также отдал приказ осудить факты «нарушений социалистической законности» на специально созванных собраниях сотрудников НКВД. Органы прокуратуры, в свою очередь, получили поручение провести соответствующие расследования и организовать судебные разбирательства. В попытке обелить себя сотрудники НКВД в массовом порядке писали письма, адресованные партийным организациям, прокуратуре или собственному начальству. Так началось наказание «карателей».
Когда историки получили возможность работать с архивноследственными делами жертв массовых операций НКВД, они обнаружили, что вместе с материалами следствия зачастую были подшиты дополнительные материалы 1938–1941 гг. (редко) и 1954–1961 гг. (часто). Эта документы, служившие основанием для пересмотра приговоров и реабилитации репрессированных, включали в себя выдержки из материалов следствия и судебных процессов по делам сотрудников госбезопасности и милиции. Речь в них шла о фальсификациях, пытках и других формах «нарушения социалистической законности». В Государственном архиве Новосибирской области было найдено уже упомянутое выше письмо В.Д. Качуровского, датированное 1939 г., в котором тот хотя и критиковал массовые репрессии, тем не менее, пытался оправдать свои действия и действия управления НКВД в целом. В украинских архивах были обнаружены и опубликованы первые материалы партийных собраний управлений НКВД 1938–1940 гг., на которых во главе повестки дня стоял вопрос о «нарушениях социалистической законности». Кроме того, в научный оборот были также введены соответствующие донесения и рапорты прокуратуры[47]. Их ценность в качестве документального источника состоит, в частности, и в том, что они дают возможность анализировать конкретные преступления определенной группы «карателей» из числа сотрудников госбезопасности и милиции, которые предстают в документах как индивидуумы. В результате анонимные карательные институты и структуры обретают свое «персональное лицо». Кроме того, материалы прокуратуры опровергают версию партийно-советского руководства, что в целом репрессии были оправданными и необходимыми, и следовало лишь наказать отдельных чекистов за «эксцессы» и «перегибы».
Отметим, до этого времени только отдельные авторы задавались вопросом о мотивах преследования сотрудников карательных органов в 1938–1941 и 1954–1961 гг. Например, Леонид Наумов выразил мнение, согласно которому первая волна процессов над «карателями» непосредственно после Большого террора послужила тому, чтобы ослабить клановую структуру НКВД и перегруппировать кадры в интересах новой конъюнктуры карательной политики, сводившейся теперь к выборочным репрессиям[48]. Тимоти Блаувельт и Никита Петров интерпретировали наказания чекистов как средство, которое позволило разрушить «ежовский клан» и заполнить освободившиеся места сторонниками Л. Берии[49]. В свою очередь, другой «ученый», Р. Шамсутдинов, с явно выраженной антисемитской ориентацией, приписывает Сталину намерение очистить органы госбезопасности от «еврейских элементов», которые стали вести себя слишком самостоятельно[50]. Автор настоящей статьи высказывал гипотезу о том, что наказание карателей было призвано дисциплинировать сотрудников НКВД и ограничить компетенцию органов госбезопасности прежними правовыми рамками[51].