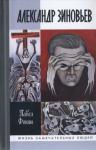Входим внутрь. Стены богато расписаны фресками, узорным орнаментом. Увы, борцы с религией приложили свою безбожную руку. Не очень усердно, но всё же достаточно разрушительно. Да и погода поработала в открытом настежь доме. Всё изъедено густой рябью, белыми оспинами. Отдельные сюжеты тем не менее различимы. Собор архангелов на сводах. Спас в Силах над входом. А это — Богородица предстоит на коленях перед Богом-Отцом? Не разобрать. Лучше всего сохранился фрагмент стены, озаглавленный «Иисус Христос благословляет Детей». Христос в окружении апостолов. Подле Него ангелы. Отрок, скрестив ручки, доверчиво оперся на Его колено. Круглое миловидное личико с большими синими глазами, пытливо, не по-детски глядящими на нас. Знакомые черты, знакомый взгляд.
Девяносто лет назад Зиновьева крестили в этом храме. Тогда в нём было нарядно и чинно. Бывал, должно быть, в его стенах Александр и позже, с родителями — на службах, у причастия. Закон предков Зиновьевы чтили и под сомнение не ставили. Церковные праздники отмечали радостно и светло. Но времена менялись. В Советской России религия была объявлена пережитком прошлого. Со всех сторон наступала атеистическая агитация. На неокрепшие детские души она действовала убедительно. Старшие же смотрели на это сквозь пальцы. Да и побаивались, наверное, перечить официальной пропаганде.
Зиновьев стал безбожником не своей волей. В школе проводился медосмотр. Он постеснялся своего нательного крестика и куда-то его спрятал. Вечером всё рассказал матери. Аполлинария Васильевна сына не ругала, но слова её, сказанные в тот вечер, он запомнил крепко и старался им следовать: «Существует Бог или нет, — говорила мать, — для верующего человека этот вопрос не столь уж важен. Можно быть верующим без церкви и без попов. Сняв крестик, ты тем самым ещё не выбрасываешь из себя веру. Настоящая вера начинается с того, что ты начинаешь думать и совершать поступки так, как будто существует кто-то, кто читает все твои мысли и видит все твои поступки, кто знает подлинную цену им. Абсолютный свидетель твоей жизни и высший судья всего связанного с тобою должен быть в тебе самом. И Он в тебе есть, я это вижу. Верь в Него, молись Ему, благодари Его за каждый миг жизни, проси Его дать тебе силы преодолевать трудности. Старайся быть достойным человеком в Его глазах»[5].
Зиновьев называл себя «верующим безбожником». Церкви, обрядов — не признавал, но все романы его — от «Зияющих высот» до «Русской трагедии», — его мировоззрение, его социология, его этическое учение («зиновь-йога») пронизаны глубинным религиозным чувством. Один из самых распространённых жанров его поэзии — молитва. Он будет называть свои книги «В преддверии рая», «Евангелие для Ивана», «Иди на Голгофу». В живописи — не раз писать Распятие. Личность Христа, Его учение и образ будут вызывать пристальный научный и художественный интерес. Он соберёт целую библиотеку книг на разных языках о Христе. Живя в Мюнхене и часто посещая Старую Пинакотеку, будет подолгу простаивать перед полотном Сандро Боттичелли «Снятие с креста». Опера Ллойда Уэббера «Иисус Христос — Суперзвезда» станет одним из его любимых музыкальных произведений XX века, он выучит из неё целые арии, будет интересоваться судьбой постановки, исполнителями главных партий. Его диалог с отвергнутым в детстве Христом будет длиться до смертного часа. И, кажется, продолжается поныне. Этот заброшенный храм и место последнего приюта мыслителя так рядом! Но всё-таки — порознь.
Каким-то чудом держится над алтарём почерневшее, перекошенное распятие — часть утраченного иконостаса. В одной из ниш обнаруживаем бумажную иконку и наполовину сгоревшую церковную свечу перед ней. Кто-то сюда приходил, молился.
Странное, мистическое место. Русь заветная. Смиренно отошла в чащу. Молчит.
В Москву возвращаться поздно. На ночлег нас принимает брат Алексея Викторовича — Александр! Именно так: Александр Зиновьев! По дороге к нему проезжаем большое село Введенское. В нём есть библиотека имени Зиновьева. «У нас здесь тоже в прошлом году были „Зиновьевекие чтения“», — сообщает Алексей Викторович. «Как это?» — «Собрались в день его рождения, взяли „Зияющие высоты“ и читали вслух, обсуждали». Простодушно, но по сути своей — правильно. Зиновьева ещё читать и читать!
Вот и место нашего постоя. Нас радушно приветствуют, угощают. Приглашают поискать на кустах ягод — классическая сельская забава. На дворе ещё светло. Ходим, осматриваемся. Переживаем впечатления дня. И — боже мой! Дом. Ведь это он! Тот самый. Тот же высокий подклет, лестница, ведущая на крыльцо. Из сеней один ход — в жилую часть, в которой — всё сходится! — и гостиная, и горница, и кухня с русской печью, а с другой стороны — повить. Просторно, но всё как-то запущено. Кособоко. У хозяина уже нет ни сил, ни средств — пенсионер — содержать дом в порядке. Да, похоже, и особого желания нет. Стойло пустует, огород давно не копан — нет смысла вести, когда всё можно купить. Для дохода держит ульи.
Вечерние пчёлы усердно гудят в палисаднике. Из окна хохочут «новые русские бабки» в телевизоре. Вспоминаю горькие слова Зиновьева, сказанные им на закате дней: «Одно из важнейших последствий наступившей эпохи (если не самое важное) является утрата смысла социального бытия людей»[6].
Нет, это не тот дом.
В Москве на Ярославском вокзале брата встретил Михаил. Шёл дождь. Было темно и неуютно. До Большой Спасской, где жил отец, идти было недалеко. По деревенским меркам, совсем близко — двадцать минут ходу. Поклажи — никакой, только рубашка да штаны запасные. И документы — свидетельство о рождении и об окончании четырёх классов. Пока шли, Михаил расспрашивал о матери, о новостях. Александр примечал дорогу. После массивного Казанского вокзала, который сразу узнал по картинке, всё прочее совсем не походило на «сказочную Москву», о которой он слышал от деда, о которой читал в случайно попавшем в руки томе сочинений Гамсуна. Из путевых очерков великого норвежца запомнилась панорама, открывшаяся тому с Боровицкого холма в Кремле: «В Москве около четырёхсот пятидесяти церквей и часовен, и когда начинают звонить все колокола, то воздух дрожит от множества звуков в этом городе с миллионным населением. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на земле может существовать подобный город: всё кругом пестреет зелёными, красными и золочёными куполами и шпицами. Перед этой массой золота в соединении с ярким голубым цветом бледнеет всё, о чём я когда-либо мечтал»[7]. Но здесь, на Мещанке, всё проще — никакого золота, обычные жилые дома, дворы, заборы.
Вот и дошли. Дом одиннадцать. Такой же, как и прочие. Каменный, в два этажа. До революции принадлежал двоюродному деду Александра — купцу Бахвалову. Об этом извещала надпись на каменной балке над входом. Ну, если не «родовое имение», то, во всяком случае, не совсем чужое место. Всё — легче. Михаил почему-то спускается по лестнице вниз, в подвал. Оказывается, они с отцом живут здесь. Какие-то люди выходят в коридор. Михаил говорит, что вот, приехал брат из деревни — учиться, зовут Саша, будет теперь здесь жить. Соседи! Всего, вместе с Зиновьевыми, пять семей. Общая кухня, уборная.