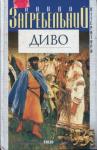— Откуда вы все знаете? — искренне удивился Отава. — Это просто какой-то мистицизм.
— Я все знаю. — Она засмеялась в темноте, и Отава представил, как изгибаются ее лукавые губы, и ему впервые в жизни стало страшно от близости женщины.
«Нужно ее прогнать», — подумал он внезапно, пытаясь оттеснить куда-то в самый дальний угол памяти то, что произошло перед этим. И еще подумал: «Какое она имеет право врываться вот так в мою жизнь, все ставить вверх тормашками, ломать все мои планы, главное же — ломать мой характер, ибо он уже сломан навсегда одним только ее поступком. А что же будет дальше?»
— Вы думаете о том, не лучше ли прогнать меня от себя? — спросила она у него, все дальше отходя на край дорожки. — Скажите — и я вернусь к той компании, которая… там. Я не привыкла кому-либо мешать. Сама тоже не люблю, когда мне мешают.
Он сумел скрыть новый взрыв удивления ее невероятным даром читать мысли и попытался свести все к шутке:
— Пускай уж эти товарищи догрызают там вашу подругу.
— А ее не очень угрызут. Она когда-то занималась гимнастикой. Всегда сумеет ускользнуть.
— Великое умение — ускользать, — произнес Отава так, лишь бы сказать что-нибудь.
Дальше шли молча. Дорога поднималась в горы. Она ложилась на темную землю широкими витками, раздвигая в стороны кусты, деревья и даже дома; это было типичное шоссе для машин, чтобы облегчить им подъем, но для пешеходов оно совсем не годилось. Вместо нормального движения вперед приходилось петлять по серпантинам туда и сюда, те же самые деревья, те же самые дома, те же самые уличные фонари обходить то снизу, то сверху, и если для машины из быстрого наслоения вот таких медленных витков в конечном счете все же получалось восходящее движение, то для людей, особенно в ночное время, это казалось бессмысленным блужданием в поисках неведомо чего.
Дважды обгоняли их такси, полные пассажиров. Потом в полоске света, которую бросал на шоссе фонарь, они увидели далеко впереди парочку. Стояли посреди шоссе, в самом освещенном месте, и целовались. Что это быстропроходящее курортное увлечение или, быть может, настоящая любовь, которая не хочет ждать, не понимает, где светло, где темно, а то, возможно, просто они совсем еще юные и решили вот так пересчитать своими поцелуями все следы фонарей на ночном шоссе в будут идти в горы до самого утра, потому что для таких дорога никогда не кончается. И он, Отава, тоже мог выдумать нечто подобное, например, целовать Таисию на каждом новом изгибе дороги, целовать ее лукавые уста и молчать, молчать. Он всегда боялся женщин из-за их разговорчивости. Их нужно было заговаривать почти до потери сознания — тогда они чувствовали себя счастливыми. Особенно страдали этим женщины интеллигентные. У них всегда было полно претензий к каждому новому знакомому, вообще ко всему миру, им чего-то хотелось, они непременно должны были залезть тебе в душу, выведать все твои мысли. Возможно, он был несправедлив, думая так о женщинах, но сложилось это издавна, и перебороть себя Отава не хотел и не мог.
Когда проходили мимо парочки, застывшей в поцелуе, оба сделали вид, будто ничего не заметили, и дальше шли, как чужие, каждый по своей стороне шоссе, и молчали упрямо и непоколебимо, словно враги.
— Простите, — первым не выдержал Отава, — я резкий, грубый человек.
— Не беспокойтесь, — сказала Тая, — я тоже далеко не ангел. Если хотите знать, я даже жестокая. Возможно, потому и бросилась за вами в темноту, как последняя дурочка. Ни одна нормальная женщина никогда не побежала бы. Особенно из так называемых нежных, добрых, ласковых. Даже если бы вы бросились в море или под колеса машины… Но я начинаю набивать себе цену, а это уже совсем плохо… Лучше молчать. Скоро уже наш санаторий — и вы освободитесь от моего надоедливого общества… Но перед этим я хотела бы вам признаться… абсолютная бессмыслица, но… Знаете, у меня зоркий глаз… Даже сейчас, в темноте… Хотя темнота — это лишь для непосвященных, а для художников — это среда, где рождаются все краски от сочетания со светом… Видите, я уже начинаю читать вам лекции, отбивая ваш хлеб.
— Я не читаю лекций, — сказал Отава.
— Простите. Не знала… Так о чем я? Ага, о наблюдательности… Представьте себе: пока вы ходили в неглаженых, каких-то пожеванных штанах и старом свитере, а я тоже придерживалась вашего стиля и упрямо носила брюки и свитер, вызывая осуждение всех санаторных дам и респектабельных мужчин, но делала я это непроизвольно, мне казалось, что я не думаю о вас и не обращаю на вас никакого внимания. Но вот вы надеваете костюм, как все, белую сорочку и галстук и, как все, куда-то исчезаете по вечерам. И снова не знаю: любопытство или что это? Но мне захотелось узнать, куда и зачем вы исчезаете, хотя я поняла, что это совершеннейшая бессмыслица… А потом я увидела это ваше окно в кафе… И стала приходить к нему тогда, когда вас не было еще… Поймите меня: я художница…
— Я вас понимаю, — сказал Отава, — понимаю, ведь я тоже почти художник…
— Мне говорили, что вы историк…
— Даже профессор и доктор исторических наук, — почти сердито произнес Отава, — но это чисто формально…
— Вы хотите подчеркнуть, что вы — не ординарный профессор и доктор? изменившимся голосом промолвила художница, словно бы сожалея о той откровенности, с которой она минуту назад разговаривала с Отавой.
— Да нет, просто хочу от историков перекинуться к вам, художникам, хотя и знаю, что это почти невозможно.
— Иконы? Древнее искусство? Это теперь модно. Даже более модно, чем абстракции. У нас в Москве, можно сказать, эпидемия среди писателей, среди артистов, о художниках не говорю — некоторые на этом даже зарабатывают.
— Не угадали. Вовсе не иконы.
— Архитектура? Как у Нестора: «Откуда есть пошла Русская земля?» и «Откуда малометражные квартиры стали суть?». Но, кажется, эту тему у вас перехватили. Вам разве что осталось выступать в газетах.
— Тоже не угадали.
— Простите, я становлюсь слишком любознательной. А это почти всегда признак глупости.
Опять она словно бы отгадала мысли Отавы и снова — в который раз! удивила его своей проницательностью.
— Хорошо, я отплачу вам тем же самым, — сказал он, переходя к ней через шоссе и несмело прикасаясь к влажным белым ворсинкам на ее рукаве. Вы чуть ли не каждый день ходили в горы с этюдником. Разрешите поинтересоваться, удалось вам что-нибудь сделать за это время?
— Могу показать. — Она остановилась и посмотрела ему в лицо, и он увидел ее темные глаза и выразительные губы. — Завтра приглашу вас к себе и покажу. У меня отдельная комната, мне созданы все условия… Видите? Сегодня, к сожалению, не могу. Неприлично. А тем временем мы уже и пришли. Незаметно в разговорах и молчании. Вы не сердитесь на меня?
— Нет, — сказал Отава, хотя и понимал, что сейчас ничего не нужно говорить. А что нужно, не знал.
— Тогда спокойной ночи. — Тая улыбнулась.
— Угу. — На него нахлынула извечная его угрюмость. — Спокойной ночи.
Ночью ему приснилось, будто он плачет. Проснулся — и почувствовал, что лицо в слезах. Чтобы не будить соседей по комнате, тихонько вышел к умывальнику, посмотрел в зеркало. Красные, какие-то совсем маленькие, будто не его, глаза на скуластом некрасивом лице с большим носом и вялым подбородком. Снял пижамную куртку, открыл кран, долго плескался под холодной струей воды, снова посмотрел в зеркало. И снова не увидел ничего привлекательного. Костяк, на который природа забыла налепить мяса. В голове бились два слова — «преславный — пресловутый», будто мухи о стекло. Пресловутый… преславный…