И впервые по-настоящему понял, вернее, ощутил, почувствовал одну простую и суровую истину: ограниченность пищевых ресурсов нашей планеты.
Энергия Солнца огромна, хотя земной поверхности достигает сравнительно малая ее часть. Но все же на каждый гектар суши и моря в средних широтах приходится за год 9 миллиардов калорий. К сожалению, эффективность фотосинтеза невелика, растения аккумулируют в среднем 0,1–0,3 процента солнечной энергии. По расчетам П. Дювиньо и М. Танга, это обеспечивает ежегодное продуцирование примерно 83 миллиардов тонн органического вещества — биомассы растений. Около 53 миллиардов создается на материках, остальное — в морях и океанах.
83 миллиарда тонн. Это почти все, чем мы располагаем. Основной капитал человечества. Можно культивировать растения, наиболее эффективно использующие энергию Солнца. Увеличивать занятые ими площади. Предпринимать другие шаги. Прирост органического вещества увеличится. Но не безгранично. У него есть пределы, определяемые энергией Солнца, попадающей на нашу планету, поглощающей ее поверхностью растений и эффективностью их фотосинтеза.
Прежде в уповании на «беспредельность», «неисчерпаемость» природных ресурсов никто не задумывался о том, каков прирост биомассы растений и в какой мере он может удовлетворить потребность человечества. Теперь все изменилось. У органического вещества планеты нашлась рачительная хозяйка — экология. Она села за стол, вооружилась счетами и карандашом. Подсчитала все. И предупредила: кладовая Земли не скатерть-самобранка. Необходима осторожность!
Экология, оказывается, конкурирует не только с биологией, но и с географией, экономикой, социологией!
— А разве прежде люди не занимались такими подсчетами? Не знали, чем располагают? Экология, оказывается, конкурирует не только с биологией, но и с географией, экономикой, социологией!
— Конкурирует… Если бы это было так, она давно бы уже вытеснила своих «соперниц» из науки. Или сама пала жертвой конкуренции. Ни того, ни другого не случилось. Своему рождению экология обязана пробелам в занятиях предшественниц.
Конечно же, все началось с Аристотеля. Так уж получилось, что этому ученому суждено было стать родоначальником почти всех естественных наук: зоологии, систематики, сравнительной анатомии, общей морфологии, эмбриологии, физиологии и даже… геологии. Поэтому, когда возникнет вопрос, откуда экология, отвечайте не задумываясь: от Аристотеля! И не ошибетесь. Ну а если совсем серьезно, то этот необычный человек действительно имел отношение к экологии. Косвенное, конечно. Об этом свидетельствуют его взгляды на жизнь и взаимоотношения организмов.
Гераклит еще до Аристотеля указывал на существование всеобщей связи в живой природе, на вечную подвижность и изменчивость. До нас дошли его удивительные строки: «Все непрерывный прилив и отлив… Как дитя играет с песком, пересыпая, собирая и рассыпая его, так и нестареющая вечность играет с миром… Никто не входит дважды в один и тот же поток, ибо воды его, постоянно текущие, меняются… Текут наши тела, как ручьи, и материя вечно возобновляется в них, как вода в потоке».
И Теофраст, ученик Аристотеля, давно уже и привычно числящийся в «отцах ботаники», писал о влиянии растительности на топографические и географические условия. У него же мы найдем типично экологические рассуждения о воздействии климата и погоды на рос г растений, их долговечность, сроки созревания плодов к даже о влиянии среды из аромат плодов и цветов.
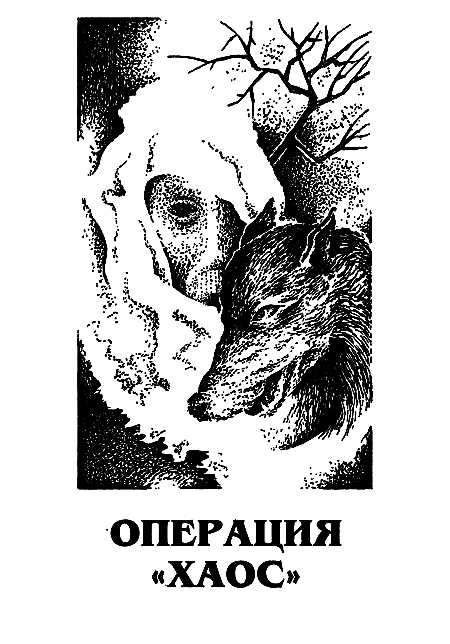
И все-таки истоки экологии ведут именно от Аристотеля. Почему? Наверное, такова магия громкого имени в соединении с действительными разнообразными заслугами человека. Еще один драгоценный камешек в диадему великого ученого. Что от этого изменится? Ничего. Разве что лишится этого камешка ученый, у которого он был единственным. Впрочем, кого заботит такая малость…
Почти два тысячелетия сотни ученых собирали данные о взаимоотношениях растений, животных и окружающей их среды. В XIX веке наступила пора кристаллизации идей в новую науку. Карл Линней высказал мысль о существовании «экономии природы»; под ней он понимал «взаимные отношения всех естественных тел, на которых основывается равновесие в природе». Его наблюдения были в сущности своей экологическими, хотя он и давал им теологическое объяснение, утверждая, что все в природе вершится по единому плану «творца-конструктора». Того же противоречивого мнения придерживался и Иоганн Вольфганг Гёте:
