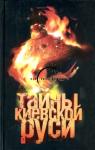Новгородцы и заморский Рюрик
«В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. А хазары, брали с поля, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма». Так в летописи под 859 годом появляются наши варяги, в которых многие видят завоевателей и грабителей. Причем первое предложение относится к Новгороду и северным территориям, а второе – к югу и южным территориям Хазары до Новгорода не доходили, главной мишенью для них были города южной Руси. Новгородцы, которые охотно создавали из иностранцев наемную армию, похоже, использовали ее не только для охраны во время морских и речных переходов, но и для «работы с подчиненным населением», склонным к бунтам. Средневековые северные города кормились не только за счет торговли, они были крупными землевладельцами, и земли, на которых они стояли, автоматически считались «новгородскими», недаром именно Новгород ставил на этих землях сторожевые посты, крепости и новые города Раскопки в одном из первых торговых городов Новгородской земли – Старой Ладоге – показали, что на этой небольшой территории жили словене, чудь, шведы. Это был интернациональный город, расположенный в удачном для торговли месте, а рядом с Ладогой стояли дополнительные крепости – форпосты, готовые защитить торговых людей. Для Новгорода таким форпостом была сама Ладога, защищающая начало водного пути «из варяг в греки».
«Первые постройки, которые мы открыли в Ладоге на Земляном городище, – рассказывал мне доктор исторических наук Евгений Александрович Рябинин, – датируются серединой VIII века – 753 год, а в летописи Ладога упоминается среди других древнейших русских городов, и связано это с фрагментом о призвании варягов – 859-862 годы. Мы обнаружили отлично сохранившиеся деревянные постройки, которые относятся к этому времени. Судя по результатам раскопок, население Ладоги было смешанным. Там хорошо прослеживаются скандинавы с острова Готланд, славяне, выходцы с более южных территорий, и балты. Поэтому то население, которое было в Ладоге, нельзя называть славянским, нельзя называть скандинавским. Нигде не сказано, что она была столицей. Просто варяг-Рюрик сел в Ладоге, то есть ее захватил. Для того, чтобы была она столицей, нужно, чтобы создалось само русское государство. Что ж выходит, северная Русь – это когда он в Новгороде сидел, а Киевская – когда в Киев перебрался? Поэтому будем называть это так: первая база основателя династии Рюрика». К сожалению, от того начального периода русской истории не сохранилось крепостей, так что, как выглядела Ладога в это время, можно только предполагать. «В ходе раскопок мы обнаружили два дворца, – продолжает Рябинин, – сменяющие друг друга на протяжение полувека. Но это эпоха Олега и эпоха князя Игоря. В первые 80 лет существования поселение было очень маленьким. Собственно говоря, по-настоящему начало заселения Ладоги относится к X веку. Именно в X веке поселение Ладога превращается в город. Что же касается значения этой Ладоги, то академик Рыбаков правильно написал, что это была естественная база норманнов. И если мы обратимся к средневековым сагам и географическим сочинениям второй четверти X века, то скандинавы не считали Ладогу русским городом. Они говорят: мы пришли в Ладогу, потому что нельзя было плыть до Новгорода. Если перейти на современный язык, то речь идет о свободном экономическом пространстве. Вольный город. Ладога держала контроль над Балтикой». Рядом с Ладогой, в полутора километрах, есть и другой исторический памятник – Любша. Евгению Александровичу посчастливилось найти здесь древнюю каменную крепость. В те времена, когда Ладога была просто деревянным селом, в Любше существовали каменные укрепления: «Пока мы не можем суверенностью сказать, кто основал эту крепость. Может быть, западные славяне, может быть, Великая Моравия, чехи. Неизвестно. Потому что в восточной Европе этого времени нет крепостей. Но люди, строившие крепость, знали, что такое каменная архитектура, и традицию они принесли уже в сложившемся виде. Ясно, что это не скандинавы,, скорее всего – славяне, но откуда они пришли, пока неизвестно.
А потом в один прекрасный момент, не позднее 900 года, пришли другие люди, боевые, энергичные, крепость взяли и остались в ней жить. Но они не поняли, зачем нужны каменные стены, и они их, засыпали! Может быть, именно летописный Рюрик и побил нашу крепостцу».
Может, и побил. Вряд ли «призвание» Рюрика происходило на совершенно безоблачном историческом фоне. Летопись явно указывает на несогласие новгородцев с их варягами: изгнали они защитничков за море и попробовали сами владеть своей землей, но, очевидно, перессорились и начали святое дело усобицы, которое характерно как для феодальной республики Новгород, так и для более поздней южной Руси. Между прочим, ученых смущает само название Новгорода: если существует Новгород, то, исходя из логики, где-то должен находиться и Старгород: «Теория переселения предполагает наличие разноэтапных „Нового“ и " Старого" городов.
Концепция переселения может быть проверена поэтому только поисками предположенного предшественника Новгорода. В пределах Новгородской земли, в отличие от других русских земель, городов очень мало. За вычетом крепостей, построенных в XIII-XV вв., к числу несомненно древних относятся лишь Старая Кадога, Старая Русса и Рюриково Городище (в 2 км от Новгорода). Все три пункта уже предлагались в литературе на роль старого по отношению к Новгороду города, чему способствовало осмысление их топонимов. Между тем и Русса, и Ладога стали называться "Старыми" исключительно поздно и не по отношению к Новгороду, а по отношению к возникшим около них Новой Руссе и Новой Ладоге. Городище, которое так именовалось и в XII в., что свидетельствовало о большой древности этого пункта, однако никогда не называлось Рюриковым; это добавление к своему названию, явившееся плодом ученых реминисценций дилетантов, оно получило лишь в краеведческой литературе XIX-XX вв. Во всех трех пунктах производились археологические раскопки, которыми установлено отсутствие в Руссе слоев более древних, чем X в., в Ладоге и на Городище, располагающих и более древними слоями, отсутствие прямых генетических связей с ранними новгородскими древностями". Вывод прост: Новгород или, как его писали в западной традиции Невогард, не имел своего Старгорода, откуда пришли "старгородцы" и построили новый город. Но с самого начала Невогард был городом торговым, то есть со смешанным населением, разными интересами и – очевидно – разными партиями, следовательно, даже решение важных вопросов на вече могло не привести народ вольного города к согласию. Новгородцы то приглашали, то изгоняли своих варягов (позже они будут проводить те же фокусы со своими князьями, о чем пишет Янин: "Факт древнего приглашения Рюрика в дальнейшем сделался конституционным знаменем Новгорода. Но это не единственный факт такого рода. Новгородцы в конце X в. настояли на княжении у них Владимира, в 1052-1054 гг. оставили у себя Ростислава Владимировича и снова пригласили его в начале 60-х годов, в 1096 г. изгнали навязанного им южными князьями Давида и призвали Мстислава, в 1102 г. решительно воспротивились замене Мстислава сыном киевского князя"), пока в конце концов не возникла необходимость полностью решить "варяжский вопрос". Вот тут-то и появляется в летописи знаменитая легенда о призвании варягов.
"В год 6370 (862), – сообщает летописец, – изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род народ, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренное население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: "Чей это городок? " Те же ответили: "Были три брата Кий Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам". Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде".
Из этого отрывка, который обыкновенно попадает в любой учебник истории, ясно, что наша проблема с варягами, Рюриком и русью только начинается. Именно в этом тексте и появляется синонимия между варягами и русью, а также еще более непонятное, что пришли срочным порядком вызванные из-за моря варяги и "взяли с собой всю русь". Если с варягами более-менее понятно, что наемное это войско, то с русью, которую можно разом забрать с собой и переселить из-за моря в Новгород, – дело темное. Конечно, в истории известны моменты, когда целые народы покидают место своего обитания – так двигались гунны, сметая все на своем пути, так шли готы, но никакая русь никогда и никуда не ходила, тем более с запада на восток. Некоторые ученые мужи предполагали, что русью были названы западные славяне, сидевшие в Богемии или Пруссии, и что читать нужно не русь, а вообще "прусь". Но полабские славяне, которые были уничтожены впоследствии немецкими рыцарями, никуда со своих земель не переселялись. Обориты (ободриты) крепко держались за свои "немецкие земли", считая их совершенно славянскими и ко всему прочему родными. В "Степенной книге", составленной для употребления Иоанном Васильевичем Грозным, по этому поводу записано следующее: "Жезлом же прообразы в Руси Самодержавие Царское скифетроправление, иже нанося от Рюрика, его же выше рекохом, иже прииде из Варяг в Великий Нов Град с двема братом своима и с роды своима, иже бе от племени Прусова, по его же имени Пруская земля именуется. Прус же брат был единоначальствующего на земли Римского Кесаря Августа, при нем же бысть неизреченное на земли Рожество Господа и Бога и Спаса нашего Исуса Христа, предвечного Сына Божия от Пресвятого Духа и от Пречистыя Приснодевы Марии". Вот отсюда, скорее всего, и вылез на свет Прус и земля Прусова и племя Прусово, но к историческому Рюрику этот Прус не имеет никакого отношения. Не имеет к нему отношения и следующее сообщение "Степенной книги", явно пытающееся объяснить родословие Рюрика и свести его с летописными подтверждениями: "Сей Кесарь Август раздели вселенную братии своей и сродником, ему же бяше брат именем Прус, и сему Прусу тогда поручено бысть властодержавство в березех Висли реки град Маброк и Туры и Хвойница, и преславный Гданеск и иные многие града по реку глаголемую Неман, впадшую в море, иже и доныне зовется Пруская земля. От сего же Пруса семени бяше вышереченный Рюрик и братия его; и егда еще живяху за морем, и тогда Варяги именовахуся, и из-за моря имаху дань на Чуди, и на Словенех, и на Кривичех". Нет, варяг Рюрик с братьями от семени Прусова, которые пришли со "всей русью", нас устроить не могут. Такое движение полабских славян на восток не могло остаться незамеченным, и первыми бы на него отреагировали те самые немцы, активно занимавшиеся вытеснением своих язычников куда подальше. Хотя полабская Русь имела полное право именоваться русью. Этот народ в германском окружении называли ругами, откуда и было дано название острову Рюген с самым известным языческим святилищем Арконой, где находились славянские идолы. Руги, вне всякого сомнения, были язычниками и крепко своей веры держались. Но на восток, спасаясь от христианизации, они не переселялись ни в VIII, ни в IX, ни в X веках, предпочтя переселению кто крещение, а кто и смерть.
Карамзин в своей "Истории государства российского", отвечая на вопрос, кем мог быть Рюрик, писал так: "Имена трех Князей Варяжских – Рюрика, Синеуса и Трувора – призванных Славянами и Чудью, суть неоспоримо Норманские. Так в летописях франкских около 850 года: – что достойно замечания – упоминается о трех Рюриках: один назван Вождем Датчан, другой Королем (Rex) Норманнским, третий просто Норманом, они воевали берега Фландрии, Эльбы и Рейна. В Саксоне Грамматике, в Стурлезоне и в Исландских, повестях, между именами Князей и Витязей Скандинавских находим имена Рурика, Рерика, Трувара, Трувра, Снио, Синия. Русские Славяне, будучи под влиянием Князей Варяжских, назывались в Европе Норманнами: что утверждено свидетельством Лиутпранда, Кремонтского епископа, бывшего в десятом веке два раза Послом в Константинополе". "Руссов, – говорит он, – именуем и Норманнами". Итак, на выбор нам даны три Рюрика, и все из Западной Европы. Пожалуй, единственный Рюрик, точнее Рорик, который жил в нужное нам время, находился в Ютландии. Однако исследовательница Н. Васильева пишет: "О Рорике известно, что он в 857-861 гг. владел частью южной Ютландии (Дании) на границах империи Каролингов, а до этого – Дорегитадтом на нижнем Рейне. В 870-873 гг. он числился вассалом императора Карла Лысого. Между тем об основателе русской правящей династии, Рюрике, известно, что он не позднее 862 г. (а может быть, и раньше) прибыл в землю словен и оставался их князем до самой своей смерти… Однако нашим норманистам такие "неувязочки " не помеха. Они утверждают, что Рорик Ютландский… мог "побывать" в России (в промежутке 861-870 гг., когда его имя не попадало в тексты западных хроник), потом вернуться обратно (чтобы успеть стать вассалом Карла Лысого!), потом опять в Россию". В 845 году он разграбил верховья Эльбы, в 846 году та же участь постигла Францию, в 850 году на 350 кораблях он налетел на побережье Англии, а с 851-854 года активно отвоевывал родной Фрисланд, но не отвоевал. Да, беда – слишком знаменит был ютландский викинг, которого иначе чем "язва норманнская" современники и не называли. Слишком он прославился грабежами кораблей на Балтийском море. Слишком точно отмечены даты его жизни. Для легенды это нехорошо.
Но если не он… Тогда – кто?
В новгородской Иоакимовской летописи дается иной путь поиска.
По Васильевой "Рюрик, Синеус и Трувор были детьми Умилы, дочери словенского князя Гостомысла, последнего представителя прежней династии. Именно Рюрику и его братьям Гостомысл завещал власть, поскольку у него не осталось прямых наследников-сыновей. О предках Рюрика по мужской линии мало известно, но некоторые данные позволяют предположить, что его отцом был ободритский (то есть варяжский!) князь Годослав (Годолайб), убитый датчанами в 808 г. Об этом говорят старинные немецкие источники, восходившие к древним традициям вендского Поморья, например, генеалогии Ф. Хемница, созданные в XVII в. Согласно Хемницу, братьев Рюрика зовут несколько иначе – Сивар и Трувар, но это только доказывает независимость немецких источников от "Повести временных лет". Известно, что другое название союза ободритов, в который входили и вагры-варяги, было ререги; возможно, это символическое имя-тотем, означающее "сокол" (ререг, рарог). Главный город ободритов также назывался в раннем Средневековье Рериком (сейчас это Мекленбург). В городе Рерике и правили ободритские князья Аражко и Годослав, когда в 808 году на них напал датский конунг Готрик. Город подвергся разорению, князь Годослав попал в плен и был казнен; Аражко продолжил сопротивление, но в следующем году был предательски захвачен и также убит". Год 808-й вошел в немецкую историю как год победы над "вендским соколом". Значит, все же "от семени Прусова"? Ободрит? Но… тут нас снова поджидает неприятность: если Рюрик сын Годослава, будь ему в год смерти отца хоть и с год, то в 862 году, в год призвания в Новгород, нашему воину исполнилось бы 54 года, а если ему в год гибели Годослава исполнилось лёт пять – так и все 59… Васильевой, чтобы спасти Рюрика оборитского для русской истории, приходится смещать даты призвания чуть не на десятилетие назад. "Большой временной разрыв со следующим поколением легко объяснить тем, что Рюрик после воцарения наверняка решил укрепить свой статус новым браком, уже вполне соответствующим его высокому положению. Проще говоря, Рюрик женился на молоденькой княжне. Как сообщает Иоакимова летопись, вообще-то жен у него было несколько; но правом наследования мог пользоваться только сын от знатной особы, равной по статусу "урманской княжны" Ефанды (или Енвиды). Этот брак мог состояться в 860-е гг., и тогда же у Рюрика и родился наследник, Игорь. Ефанда и ее брат, известный как Вещий Олег, – конечно ж, не "шведы" (как неправильно интерпретировал слово "урмане", то есть "норманны", сам Татищев), и не "норвежцы", как это толкуют сейчас, а представители все той же западнославянской варяжской аристократии; "норманнами", то есть "северянами", в Средние века называли вообще всех жителей Северной Европы. Кстати, имя "Ефанда" или "Енвида" в Скандинавии вообще неизвестно (как и Олег), зато оно очень похож на континентальные имена "кельтского" типа вроде "Аманда", "Малфрида", "Рогнеда" и т. д.; как известно, западные славяне, венды-варяги, использовали такие имена. Сколько лет в момент рождения сына могло быть жене Рюрика? Допустим, около 20, и родилась она около 850 г. Примерно этому же поколению принадлежал и ее брат Олег, который принял власть в 879 г. Олегу в момент смерти Рюрика могло быть лет 30, а Игорь считался еще во время похода Олега на Киев несовершеннолетним (как отмечает ПВЛ). Вероятно, вначале Олег имел что-то вроде статуса "регента" при законном наследнике, как ближайший родственник, но впоследствии совершенно оттеснил Игоря от управления; этим и объясняется двойственность упоминаний о нем в летописях – то как о воеводе (новгородская традиция), то как о полновластном князе".