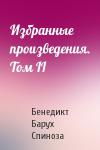уступить ярости фарисеев, приказал распять Христа, которого он
признал невиновным. Кроме того, фарисеи, чтобы лишить более
богатых их почетного положения, начали возбуждать вопросы о
религии и обвинять саддукеев в нечестии; а по этому примеру
фарисеев всякие гнусные лицемеры, побуждаемые той же злобой, которую они называют ревностью о божественном праве, всюду
преследовали мужей, отличавшихся честностью и знаменитых
добродетелью и поэтому неприятных для толпы, именно: публично
предавали проклятию их мнения и разжигали гнев свирепой толпы
против них. И это дерзкое нахальство не могло быть легко обуздано, так как оно прикрывалось религией, — в особен-
243
243
ности [там], где высшие власти ввели какую-нибудь секту, основателями которой они не являются; потому что они оказываются
тогда не толкователями божественного права, но сектантами, т.е.
признающими учителей секты за толкователей божественного права, и потому авторитет начальства в этих вещах у простонародья (plebs) обыкновенно имеет малое значение, но больше всего имеет значение
авторитет учителей, толкованиям которых, как полагают, даже цари
должны подчиняться. Следовательно, чтобы избежать этого зла, ничего нельзя придумать более безопасного для государства, как
полагать благочестие и исповедание религии только в делах, т.е.
только в упражнении в любви и справедливости, а в остальном
предоставить каждому свободное суждение; но об этом подробнее
потом. 3) Мы видим, сколь необходимо как для государства, так и для
религии предоставить верховной власти право решать, что законно и
что незаконно. Ибо если самим божественным пророкам это право
оценивать поступки могло быть предоставляемо только с большим
ущербом для государства и религии, то гораздо менее оно должно
быть предоставляемо тем, которые ни будущего не умеют
предсказывать, ни чудес творить не могут. Но об этом впоследствии я
поговорю обстоятельнее. 4) Наконец, мы видим, как пагубно для
народа, не привыкшего жить под [властью] царей и имеющего уже
установленные законы, избирать монарха. Ибо ни сам [народ] не
будет в состоянии выдержать такое правление, ни царская власть не
сумеет терпеть законы и права народа, установленные другим лицом, менее авторитетным, а еще менее она будет склонна защищать их, в
особенности потому, что при установлении их не могли быть приняты
в соображение интересы царей, но только народа или народного
собрания, которое думало править царством; и, стало быть, защищая
древние права народа, царь казался бы скорее слугой, нежели
господином его. Следовательно, новый монарх с величайшим
усердием будет стараться установить новые законы и изменить права
государства в свою пользу, а народ поставить в такое положение, чтобы он не так легко мог отнимать почет у царей, как воздавать его.
Но здесь я никак не могу умолчать о том, что не менее опасно
также и умертвить монарха, хотя бы было совершенно ясно, что он
тиран. Ибо народ, привыкший к царскому авторитету и им только
сдерживаемый, будет пре-
244
244
зирать и высмеивать меньший [авторитет]; и потому, если бы одного
умертвили, то для народа будет, необходимо, как некогда для
пророков, избрать на место первого другого, который будет тираном
не добровольно, но по необходимости. Ибо каким образом для него
будет возможно видеть окровавленные цареубийством руки граждан и
слышать их похвальбу убийством как доблестным поступком, который они сделали только затем, чтобы показать пример для него
одного? Понятно, если он желает быть царем и не признавать народ
судьей царей и своим господином и царствовать независимо, то он
должен отомстить за смерть первого и в свою очередь показать
пример в своих интересах, дабы народ вторично не отважился
совершить такое преступление. Но отомстить за смерть тирана
убийством граждан ему будет не легко, если только он в то же время
не будет защищать принципов того первого тирана и одобрять его
деяний и, следовательно, не пойдет во всем по стопам первого тирана.
Вот почему и происходило, что народ хоть и часто мог менять тирана, но никогда не мог освободиться от него или заменить монархическое
правление иной формой правления. Роковой пример этого дал
английский народ, искавший причин, которые позволили бы ему
умертвить монарха на законном основании; однако, умертвив его, он
менее всего мог изменить форму правления. По, пролив много крови, пришли к тому, что был провозглашен новый монарх, под другим
названием (как будто весь вопрос был в одном названии); последний
никоим образом не мог утвердиться иначе, как совершенно истребив
царский род, убив друзей короля или подозреваемых в дружбе с ним и
нарушив войной мирный досуг, способный порождать россказни, дабы простой народ, занятый и увлеченный новыми событиями, направил мысли от убийства короля на другое. Народ поэтому поздно
заметил, что для спасения отечества ничего другого не сделал, как
только нарушил право законного короля и все привел в худшее
состояние. Таким образом, он при первой возможности решил
вернуться к старому и не успокоился, пока не увидел, что все пришло
в прежнее свое состояние 85. Но, может быть, кто-нибудь, приведя в
пример римский народ, возразит, что народ легко может освободиться
от тирана; но я думаю, что именно на нем наша мысль вполне
подтверждается. Ибо хотя
245
245
римский народ гораздо легче мог избавиться от тирана и изменить
форму правления по причине того, что право избрания царя и его
преемника было у самого народа и что сам он (состоявший именно из
людей мятежных и отчаянных) еще не привык повиноваться царям
(ибо из шести царей, бывших у него раньше, он умертвил троих), однако он ничего другого не сделал, как вместо одного избрал
нескольких тиранов 86, которые постоянно вовлекали его в
бедственную внешнюю и внутреннюю войну, пока, наконец, власть
снова не перешла к монарху, и тоже только под измененным
названием, как и в Англии. Что же касается Голландских штатов, то у
них никогда, сколько мы знаем, не было королей, но были графы, на
которых право господства никогда не переносилось. Ибо, как
объявляют сами великомощные Голландские штаты в докладе, изданном ими во время графа Лейчестера, они всегда сохраняли за
собой право (authoritas) напоминать тем графам об их обязанности и
удерживали у себя власть защищать это свое право и свободу граждан
и предъявлять требования к графам, если бы они выродились в
тиранов, сдерживая их так, что они только с дозволения и одобрения
штатов могли что-либо сделать. Из этого следует, что право
верховного величества, которое последний граф 87 старался присвоить
себе, всегда было у штатов; поэтому далеко не верно, что они
изменили ему, когда восстановили свое древнее, почти уже
утраченное господство. Таким образом, этими примерами вполне
подтверждается то, что мы сказали, именно: что форму всякого
правления необходимо должно сохранять и она может быть изменена
не без риска полного его разрушения; эхо и есть то, что я счел
нужным здесь заметить.
Г ЛАВА XIX
ПОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ПРАВО ОТНОСИТЕЛЬНО
СВЯЩЕННЫХ ВЕЩЕЙ ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕЦЕЛО
ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ И ЧТО ВНЕШНИЙ КУЛЬТ РЕЛИГИИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИСПОСОБЛЕН К СОБЛЮДЕНИЮ
СПОКОЙСТВИЯ В ГОСУДАРСТВЕ, ЕСЛИ МЫ ХОТИМ
ПРАВИЛЬНО ПОВИНОВАТЬСЯ БОГУ
К
огда я говорил выше, что только те, кто обладает властью, имеют
право на все и что только от их решения зависит все право, я желал
разуметь под ним не только
246
246
гражданское, но и священное; ибо и этого права они должны быть
истолкователями и защитниками; и это здесь я желаю отчетливо
отметить и специально поговорить о нем в этой главе, потому что есть
весьма много людей, которые совершенно отрицают, что это право, т.е. право относительно священных предметов, приличествует
верховным властям, и не хотят признавать их за истолкователей
божественного права, а потому берут на себя смелость обвинять и
позорить их и даже отлучать за это (как некогда Амвросий 88
императора Феодосия) от церкви. Но, что они таким образом делят
власть, и даже сами стремятся к власти, мы увидим ниже в этой самой
главе. Прежде всего я хочу показать, что религия получает силу права
только по решению тех, кто имеет право повелевать, и что бог
никакого особого владычества над людьми не имеет иначе, как только
через тех, кто обладает властью; и, кроме того, что культ религии и
практика в благочестии должны сообразоваться со спокойствием и
пользой государства и, следовательно, должны быть определены
только верховными властями, а эти власти должны быть и
истолкователями этого. Говорю умышленно о «практике в
благочестии» и «внешнем культе» религии, а не о самом благочестии
и внутреннем почитании бога или о средствах, которыми душа
внутренне располагается к почитанию бога всем сердцем; ибо
внутреннее почитание бога и само благочестие составляют право
каждого (как мы показали в конце главы VII), которое не может быть
перенесено на другого. Далее я полагаю, что из главы XIV довольно
ясно то, что я разумею здесь под царством божьим; там ведь мы
показали, что тот исполняет закон божий, кто соблюдает
справедливость и любовь по заповеди божьей, откуда следует, что
царство божье есть то, в котором справедливость и любовь имеют
силу права и заповеди. И здесь я не признаю никакого различия, преподает ли и предписывает ли бог истинный культ справедливости
и любви посредством естественного света или посредством
откровения; ведь нисколько не важно, как был открыт тот культ, лишь
бы он получил высшее право и был для людей высшим законом. Итак, если я покажу теперь, что справедливость и любовь могут получить
силу права и заповеди только на основании государственного права, то легко заключу из этого (так как государственное право находится в
руках только
247
247
верховных властей), что религия получает силу права только
вследствие решения тех, кто обладает правом повелевать, и что бог
никакого особого владычества над людьми не имеет иначе, как только
через тех, которые обладают властью. Но, что культ справедливости и
любви получает силу права только на основании государственного
права, ясно из предыдущего; ведь мы показали в главе XVI, что в
естественном состоянии у разума не больше права, чем у желания, но
что как те, кто живет по законам желания, так и те, кто живет по
законам разума, имеют право на все, что они могут. По этой причине в
естественном состоянии мы не могли представить ни греха, ни бога
как судью, карающего людей за грехи, но представляли, что все
происходит по общим законам всего мироздания (Natura universa) и
что один и тот же случай (говоря словами Соломона) приключается с
праведным и нечестивым, чистым и нечистым и пр. и нет никакого
места ни справедливости, ни любви. Но, для того чтобы правила
истинного разума, т.е. (как мы показали в главе IV относительно
божественного закона) сами божественные правила, абсолютно имели
силу права, мы представили, что необходимо было, чтобы каждый
поступился своим естественным правом и все перенесли его на всех
или на несколько человек, или на одного, и тогда нам в первый раз
стало ясно, что есть справедливость, что — несправедливость, что —
правота и что — неправота. Итак, справедливость и абсолютно все
правила истинного разума, а следовательно, любовь к ближнему
получают силу права и заповеди только от государственного права, т.е. (как мы в той же главе показали) только от решения тех, кто имеет
право повелевать. И так как (как я уже показал) царство божье состоит
только в праве справедливости и любви, или истинной религии, то
отсюда следует то, что мы хотели доказать, именно: что бог никакого
владычества над людьми не имеет иначе, как только через тех, кто
обладает властью. И все равно, говорю, получили ли мы религию
посредством естественного света или пророческого откровения, ведь
наше доказательство имеет общий характер, так как религия остается
одной и той же и равно открытой богом независимо от
предположения, что она стала известной людям этим или тем
способом. Потому, чтобы и пророчески откровенная религия имела у
евреев силу права, необходимо было, чтобы каждый
248
248
из них сперва поступился своим естественным правом и все с общего
согласия постановили повиноваться только тому, что было
пророчески открыто для них богом; точь-в-точь как делается в
демократическом государстве, как мы показали, где все с общего
согласия решают жить только по предписанию разума. И хотя, кроме
того, евреи перенесли свое право на бога, они, однако, могли сделать
это более в идее, нежели на деле, ибо в действительности (как мы
выше видели) они сохраняли неограниченное право господства, пока
не перенесли его на Моисея, который также вслед за этим остался
неограниченным царем, и только через него бог царствовал над
евреями. Далее, по той же причине (именно: что религия получает
силу права только на основании государственного права) Моисей не
мог подвергнуть никакому наказанию тех, которые нарушили субботу
до договора и которым, следовательно, принадлежало еще их право
(см. Исход, гл. 16, ст. 27), как он мог сделать это после договора (см.
Числ, гл. 15, ст. 36), именно после того, как каждый поступился своим
естественным правом и суббота в силу государственного права
получила силу заповеди. Наконец, по той же причине после
разрушения государства евреев религия откровения перестала иметь
силу права; мы ведь никоим образом не можем сомневаться в том, что
царство божье и божественное право прекратились тотчас же, как
только евреи перенесли свое право на вавилонского царя. Ибо этим
самым договор, по которому они обещали повиноваться всему, что
говорит бог и что было основанием царства божьего, совершенно был
уничтожен; и они не могли больше исполнять его, так как с того
времени они больше не зависели от своего права (как это было тогда, когда они были в пустыне или в своем отечестве), но зависели от царя
Вавилонии, которому во всем (как мы показали в XVI главе) обязаны
были повиноваться; это и Иеремия в гл. 29, ст. 7, прямо советует им.
«Заботьтесь, — говорит он им, — о мире города, в который я отвел
вас пленными, ибо при его благосостоянии и у вас будет
благосостояние», но они могли заботиться о благосостоянии того
города не как слуги государства (они ведь были пленниками), но как
рабы, т.е. показывая себя не склонными к восстаниям, послушными во
всем, соблюдающими права и законы государства, хотя и очень
отличные от законов, к которым они привыкли в отечестве, 249
249
и пр. Из всего этого весьма очевидно следует, что религия у евреев
получила силу права только от государственного права, а после
разрушения государства она не могла более считаться как бы
велением отдельному государству, но всеобщим правилом разума; говорю: разума (Ratio), ибо всеобщая религия еще не была известна
через откровение. Итак, мы безусловно заключаем, что религия, открыта ли она через естественный свет или пророческий, получает
силу заповеди только на основании решения тех, кто имеет право
повелевать, и что бог никакого особого владычества над людьми не
имеет иначе, как только через тех, кто обладает властью. Это также
следует и яснее также понимается из сказанного в главе IV; там ведь
мы показали, что все решения бога заключают в себе вечную истину и
необходимость и что бог не может быть мыслим как князь или
законодатель, приносящий законы людям. По этой причине
божественные правила, открытые посредством естественного света
или пророческого, получают силу заповеди не от бога
непосредственно, но необходимо от тех или посредством тех, кто
обладает правом повелевать и решать; стало быть, мы можем
мыслить, что бог только при посредстве тех лиц царствует над
людьми и направляет дела человеческие согласно праву и
справедливости. Это и самим опытом подтверждается; ибо следы
божественной справедливости находят только там, где царствуют
справедливые; иначе (повторяя опять слова Соломона) мы видим, что
один и тот же случай приключается с праведным и неправедным, чистым и нечистым. Это заставляло, конечно, весьма многих лиц, думавших, что бог царствует над людьми непосредственно и
всю«природу направляет в их пользу, сомневаться относительно
божественного промысла. Следовательно, так как ясно и из опыта и из
разума, что божественное право зависит только от решения верховных
властей, то следует, что они же суть и толкователи его. А каким
образом, — сейчас увидим, ибо пора показать, что внешний культ
религии и вся практика благочестия должны быть приноравливаемы к
миру и сохранению государства, если мы желаем правильно
повиноваться богу. Доказавши же это, мы легко поймем, каким
образом верховные власти становятся толкователями религии и
благочестия.
И
звестно, что любовь к отечеству есть самая высшая любовь, какую
кто-либо может обнаружить; в самом деле,
250
250
с уничтожением государственной власти ничто хорошее не может
устоять, но все подвергается опасности и только ярость и беззаконие
господствуют, наводя величайший страх на всех; отсюда следует, что
ничего благочестивого нельзя сделать ради ближнего, что не стало бы
неблагочестивым, если от этого следует вред для всего государства, и, наоборот, ничего нечестивого против ближнего нельзя учинить, чего
не приписали бы благочестию, если это совершается ради сохранения
государства. Например, тому, кто препирается со мной и хочет взять
мою рубашку, благочестиво отдать и плащ, но если принять в
соображение, что это гибельно для сохранения государства, то, наоборот, благочестиво привлечь его к суду, хотя бы он должен был
быть осужден на смерть. По этой причине и прославился Манлий
Торкват 89, так как благо народа для него значило больше, нежели
любовь к сыну. Коль скоро это так, то следует, что благо народа (salus populi) есть высший закон, к которому должно быть приноровлено все
человеческое и божественное. Но так как только верховной власти
поручено определять то, что необходимо для блага всего народа и
безопасности государства, и приказывать то, что она признает
необходимым, то отсюда следует, что только верховной же власти
поручено определять то, каким образом каждый должен выражать
любовь к ближнему, т.е. каким образом каждый обязан повиноваться
богу. Из этого мы ясно понимаем, каким образом верховные власти
оказываются толкователями религии; далее, понимаем, что никто не
может правильно повиноваться богу, если он не приноравливает
служение любви к ближнему к обязательной для каждого
общественной пользе и, следовательно, если он не повинуется всем
решениям верховной власти. Ибо так как по заповеди бога мы все (без
всякого исключения) обязаны упражняться в благочестии и не
причинять вреда никому, то отсюда следует, что никому не
позволительно помогать кому-нибудь во вред другому, а тем более во
вред всему государству и что, стало быть, никто не может
благочестиво относиться к ближнему согласно заповеди бога, если он
благочестие и религию не сообразует с общественной пользой (utilitas publica). Но о том, что полезно для государства, ни один частный
человек не может знать иначе, как на основании решения верховных
властей: им только дано управлять общественными
251
251
делами; следовательно, никто не может правильно упражняться в
благочестии и повиноваться богу, если он не исполняет всех решений
верховной власти. И это подтверждается также самой практикой: ведь
кого (гражданина или чужеземца, частное лицо или облеченное
властью над другими) верховная власть признала достойным смерти
или врагом, тому никто из подданных не вправе оказывать помощь.
Точно так же, хотя евреям было сказано, чтобы каждый любил
товарища, как самого себя (см. Лев., гл. 19, ст. 17, 18), однако они
обязаны были указывать судье того, кто совершил что-нибудь против
постановлений закона (см. Лев., гл. 5, ст. 1, и Второзак., гл. 13, ст. 8, 9), и убивать его, если его признавали заслужившим смерти (см.
Второзак., гл. 17, ст. 7). Потом, для того чтобы евреи могли сохранить
приобретенную свободу и удержать над землями, которые они заняли, неограниченное господство, им необходимо было, как мы показали в
главе XVII, приспособить религию только к своему государству и
отделить себя от остальных наций; и потому им было сказано: «Люби
ближнего своего и ненавидь врага своего» (см. Матф., гл. 5, ст. 43).
Но, после того как они потеряли государство и были отведены как
пленники в Вавилонию, Иеремия учил их заботиться о
благосостоянии и того города, в который они были приведены как
пленники, а после того как Христос увидел, что они будут рассеяны
по всему свету, он учил их питать любовь абсолютно ко всем. Все это
весьма ясно показывает, что религия всегда была приноравливаема к
пользе государства. Если же кто спросил бы теперь, по какому же, следовательно, праву ученики Христа, бывшие людьми частными, могли проповедовать религию, я бы сказал, что они сделали это по
праву власти, которую получили от Христа против нечистых духов
(см. Матф., гл. 10, ст. 1). Выше, в конце главы XVI, я ведь
определенно заметил, что даже тирану все обязаны сохранять
верность, исключая тех лиц, кому бог в известном откровении обещал
особую помощь против тирана; поэтому брать пример с этого случая
непозволительно никому, если он не имеет власти творить чудеса. Это
становится ясным также из того, что Христос и ученикам сказал, чтобы они не страшились тех, которые убивают тело (см. Матф., гл. 10, ст. 28). Если бы это было сказано каждому, то напрасно было
бы учреждать правительство и изрече-
252
252
ние Соломона (Притч., гл. 24, ст. 21): «Сын мой, бойся бога и царя», было бы сказано нечестиво, а ведь это отнюдь не верно; стало быть, необходимо должно признать, что то право, которое Христос дал
ученикам, было дано единственно только им и что с этого нельзя
другим брать пример. Впрочем, я нисколько не останавливаюсь на
доводах противников, которыми они хотят отделить божественное
право от права гражданского, и утверждают, что у верховных властей
имеется только последнее, а первое принадлежит всеобщей церкви; ибо эти доводы столь легкомысленны, что не заслуживают
опровержения. Одного только не могу обойти молчанием: как жалко
они обманываются, когда для подтверждения этого возмутительного
мнения (прошу прощения за несколько . резкое слово) они приводят в
пример верховного первосвященника евреев, у которого когда-то
было право управления священными делами. Как будто
первосвященники не получили того права от Моисея (который, как мы
выше показали, один обладал верховной властью)! Решением его они
могли быть и лишены этого права; ведь он сам избрал не только
Аарона, но и сына его Елеазара и внука Финееса и дал им власть
управлять первосвященством; первосвященники сохранили ее
впоследствии, причем так, что они считались тем не менее
заместителями Моисея, т.е. верховной власти. Ибо, как мы уже
показали, Моисей никакого преемника на господство не избрал, но все
обязанности правителя распределил так, что потомки казались его
викариями и управляли государством так, как будто царь был в
отсутствии и не умирал. Затем, в период второго царства, первосвященники получили неограниченное обладание этим правом
после того, как они вместе с первосвященством приобрели и право
верховной власти. Поэтому право первосвященства всегда зависело от
предписания верховной власти и первосвященники никогда им не
обладали иначе, как соединяя его с княжеским достоинством. Даже
более: право относительно священных вещей было у царей
неограниченное (как будет видно из того, что я скажу в конце этой
главы), кроме одного того, что им не позволялось трогать руками
употреблявшиеся в храме священные предметы, потому что все, кто
не вел своей родословной от Аарона, считались мирянами, что, конечно, в христианском государстве не имеет никакого места. И
поэтому мы не можем сомневаться
253
253
в том, что теперь священные дела (управление которыми требует
особых нравственных качеств, а не родовитости, вследствие чего те, кто обладает властью, не устраняются от него, как миряне) зависят
единственно от права верховных властей и никто иначе, как по
доверенности или с согласия оных, не имеет права и власти управлять
ими, избирать служителей при них, определять и устанавливать
основы церкви и ее учение, судить о нравах и поступках благочестия, отлучать кого-нибудь или принимать в церковь и, наконец, заботиться
о бедных. И обнаруживается (как мы уже доказали), что это не только
истинно, но и прежде всего необходимо для сохранения как самой
религии, так и государства; все ведь знают, как много значат в глазах
народа право и власть, касающиеся святыни, и насколько каждый
зависит от того, кто обладает ею; так что можно утверждать, что
больше всего господствует над умами тот, кому эта власть
принадлежит. Если, следовательно, кто желает отнять ее у верховных
властей, тот старается разделить правление, из чего необходимо
должны будут произойти, как некогда между еврейскими царями и
первосвященниками, споры и несогласия, которые никогда не могут
быть улажены. Более того: кто старается отнять это право у
верховных властей, тот (как мы уже сказали) пролагает себе дорогу к
власти. Ибо, что могут предписать верховные власти, если это право
за ними не признается? Решительно ничего — ни о войне, ни о каком
бы то ни было деле, если они обязаны ожидать мнения другого лица, которое научило бы их, благочестиво или неблагочестиво то, что они
признали полезным, но, напротив, все лучше делается по решению
того, кто имеет право судить и решать, что благочестиво или
нечестиво, законно или незаконно. Примеры этого все века видели, я
приведу только один из них, служащий образчиком для всех. Так как
римскому первосвященнику это право было предоставлено
неограниченно, то он мало-помалу начал забирать всех королей под
свою власть, пока не достиг апогея господства; и все, что
впоследствии монархи, в особенности германские императоры, ни
предпринимали для уменьшения хоть сколько-нибудь его авторитета, им ничего не удалось, но, напротив, они тем самым увеличили его во
много раз. И поистине то самое, что ни один монарх не мог сделать ни
огнем, ни мечом, церковники могли сделать одним только пером; 254
254
даже только из этого легко познаются сила и мощь того авторитета и, кроме того, то, как необходимо для верховных властей сохранить этот
авторитет за собой.
Е
сли же мы пожелаем рассмотреть и то, что в предыдущей главе
отметили, то увидим, что и то немало также способствует выгоде
религии и благочестия; ведь мы видели выше, что хотя сами пророки
и были одарены божественной добродетелью, однако вследствие того, что они были частными людьми, они своей свободой назидания, обличения и упреков скорее раздражали, нежели исправляли, людей, которые, однако, легко склонялись перед царскими увещаниями или
наказаниями; потом мы видели, что сами цари только по причине
того, что им это право не принадлежало неограниченно, весьма часто
отпадали от религии, а с ними почти и весь народ: известно, что и в
христианских государствах это случалось по той же причине весьма
часто. Но здесь, может быть, кто-нибудь спросит меня: «Кто же в
таком случае будет защищать по праву благочестие, если те, кто
обладает властью, захотят быть нечестивыми? Неужели и тогда они
должны считаться истолкователями его?» Но я в свою очередь спрошу
того: «А что если служители церкви (а они суть люди, и люди
частные, которым надлежит заботиться только о своих делах) или
другие, кому он желает присвоить право над священными делами, захотят быть нечестивыми? Неужели и тогда их должно считать
истолкователями его?» Конечно, верно, что если те, кто обладает
властью, пожелают идти по пути удовольствия — имеют ли они право
над священными вещами или нет, — то все, как священное, так и
мирское, придет в худшее состояние; а еще скорее [это случится], если какие-нибудь частные лица, взбунтовавшись, пожелают
защищать божественное право. Вследствие этого от отказа верховным
властям в этом праве решительно ничего не выигрывается, но, наоборот, зло более умножается, ибо в результате они необходимо
(так же как и еврейские цари, которым это право не было
предоставлено неограниченно) оказываются нечестивыми и, следовательно, вред и зло для всего государства из неопределенных и
случайных становятся определенными и необходимыми. Итак, будем
ли мы рассматривать существо предмета или безопасность
государства, или, наконец, возрастание благочестия, мы принуждены
утверждать, что божествен-
255
255
ное право, или право над священными делами, безусловно зависит от
решения верховных властей и что они суть его толкователи и
защитники. Из этого следует, что те суть служители слова божьего, кто, не роняя авторитета верховных властей, научают народ
благочестию, сообразуясь с тем, насколько оно по решению их
приноровлено к общественной пользе.
О
стается теперь указать причину, почему всегда в христианском
государстве спорили об этом праве, менаду тем, однако, евреи, насколько я знаю, никогда в нем не сомневались. Действительно, могло бы казаться чудовищным, что всегда существовало сомнение о
предмете столь очевидном и столь необходимом и что верховные
власти никогда этим правом не обладали бесспорно, даже никогда [не
обладали им] без того, чтобы не было вреда для религии и большой
опасности от мятежей. Конечно, если бы мы не могли указать никакой
определенной причины этого явления, я легко согласился бы, что все
показанное мной в этой главе есть только теория или принадлежит к
роду тех измышлений, которые никогда не могут быть полезны. Но
для человека, рассматривающего самые зачатки христианской
религии, причина этого явления становится совершенно ясной, именно: первыми учили христианской религии не цари, но частные
люди, привыкшие вопреки воле тех, кто обладает властью и
подданными кого они были, проповедовать в течение долгого времени
в частных собраниях, устанавливать духовные должности, управлять, распределять и решать все сами, не обращая никакого внимания на
правительство. А когда по прошествии уже многих лет религия стала
вводиться в империи, то церковники должны были учить ей, как они
ее определили, самих императоров; благодаря этому они легко могли
добиться того, чтобы их признали учителями и истолкователями ее и, сверх того, пастырями церкви и как бы наместниками бога; а чтобы
впоследствии христианские государи не могли присвоить себе этот
авторитет, церковники весьма хорошо оградили его, именно: запретив
вступать в брак высшим служителям церкви и верховному
толкователю религии. К этому, кроме того, присоединилось то
обстоятельство, что догматы религии довели до столь большого числа
и так смешали с философией, что верховный ее толкователь должен
был быть величайшим философом и богословом
256
256
и заниматься многими бесполезными измышлениями, а это может
быть доступно только частным людям, обладающим большим
досугом. Но у евреев дело происходило совсем иначе, ибо церковь их
началась одновременно с государством и Моисей, неограниченно им
управлявший, научил народ религии, распределил священные
должности и выбрал служителей для них. От этого же, напротив, вышло то, что у народа больше всего имел значение царский
авторитет и что право над священными делами принадлежало
главным образом царям. Ибо хотя после смерти Моисея никто
неограниченно не правил государством, однако право решения как
относительно священных дел, так и относительно остальных было в
руках князя (как мы уже показали). Затем, для того чтобы научаться
религии и благочестию, народ обязан был приходить к
первосвященнику не более как к верховному судье (см. Второзак., гл. 17, ст. 9, 11). Наконец, хотя у царей не было права, равного
Моисееву, однако почти всякое назначение и избрание на священную
должность зависело от их решений; ведь Давид предначертал
устройство всего храма (см. I Паралип., гл. 28, ст. 11, 12 и сл.); потом
он же избрал из всех левитов двадцать четыре тысячи для
псалмопения и шесть тысяч, из которых были избраны судьи и
чиновники, потом четыре тысячи привратников и, наконец, четыре
тысячи для игры на музыкальных инструментах (см. той же книги
гл. 23, ст. 4, 5). Далее он разделил их на отделы (и начальников их он
же назначил), чтобы каждый отдел в свое время, соблюдая очередь, отправлял службу (см. ст. 6 той же главы). И священников разделил
он на столько же отделов, но, чтобы мне не перечислять всего
поодиночке, я отсылаю читателя к II Паралипоменон, гл. 8, где, именно в ст. 13, говорится, что «богослужение, как его установил
Моисей, было отправляемо в храме по приказанию Соломона», а в
ст. 14 [говорится], что «сам он (Соломон) поставил отделения
священников на их службу и левитов и пр. по приказанию Давида, мужа божественного». И, наконец, в ст. 15 историк свидетельствует, что «не отступали они от царского предписания, данного
священникам и левитам, ни в чем, ни даже в управлении
сокровищами». Из всего этого и других историй о царях весьма ясно
следует, что вся религиозная практика и священная служба зависели
только от приказа царей. Но, сказав
257
257
выше, что они не имели права избирать, как Моисей, верховного
первосвященника, непосредственно спрашивать совета у бога и
осуждать пророков, которые пророчествовали при их жизни, я сказал
это только на том основании, что пророки в силу авторитета, который
они имели, могли выбрать нового царя и дать позволение на
отцеубийство, а не потому, что царя, дерзнувшего сделать что-либо
против закона, можно было бы привлечь к суду и действовать против
него по праву *. Поэтому, если бы не было никаких пророков, которые по особому откровению, не опасаясь, могли давать
позволение на отцеубийство, они имели бы право абсолютно на все —
как священное, так и гражданское. Поэтому современные верховные
власти, которые и не имеют пророков и не обязаны принимать их
(потому что они не подчинены еврейским законам), обладают этим
правом неограниченно, хотя бы они и не были безбрачными, и всегда
будут им обладать, лишь бы только они не позволяли делать большим
число догматов религии и смешивать ее с науками,
ГЛАВА XX
ПОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО В СВОБОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ
КАЖДОМУ МОЖНО ДУМАТЬ ТО, ЧТО ОН ХОЧЕТ,
И ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО ОН ДУМАЕТ
Е
сли бы повелевать умами было так же легко, как и языками, то
каждый царствовал бы спокойно и не было бы никакого
насильственного правления, ибо каждый жил бы сообразуясь с нравом
правящих и только на основании их решения судил бы о том, что
истинно или ложно, хорошо или дурно, справедливо или
несправедливо. Но, как мы уже в начале главы XVII заметили, это, т.е.
чтобы ум неограниченно находился во власти другого, не может
статься, так как никто не может перенести на другого свое
естественное право, .пли свою способность свободно рассуждать и
судить о каких бы то ни было вещах, и никто не может быть
принужден к этому. Из этого, следовательно, выходит, что то
правление считается насильственным, которое посягает на умы, и что
__________________
* См. примеч. XXXIX.
258
258
верховное величество, видимо, делает несправедливость подданным и
узурпирует их право, когда хочет предписать, что каждый должен
принимать как истину и отвергать как ложь и какими мнениями, далее, ум каждого должен побуждаться к благоговению перед богом: это ведь есть право каждого, которым никто, хотя бы он и желал
этого, не может поступиться. Я признаю, что суждение может быть
предвзято многими и почти невероятными способами, и притом так, что оно хотя прямо и не находится во власти другого, однако до такой
степени зависит от другого, что справедливо можно считать его
несвободным. Но, как бы ни изощрялось в этом отношении искусство, никогда дело не доходило до того, чтобы люди когда-либо не
сознавали, что каждый обладает в достаточной степени своим
разумением и что во взглядах существует столько же различий, как и
во вкусах. Моисей, который не посредством хитрости, но благодаря
божественной добродетели в высшей степени воздействовал на
суждение своего народа, потому что считался человеком
божественным, говорившим и делавшим все по божественному
вдохновению, и тот, однако, не мог избежать народного ропота и
превратных толкований, а тем менее остальные монархи; и если это
можно было бы мыслить каким-нибудь образом, то оно было бы во
всяком случае мыслимо лишь для монархического государства, но
отнюдь не для демократического, которым коллегиально управляют
все или большая часть народа; думаю, что причина этого для всех
ясна.
Т
аким образом, сколько бы ни думали, что верховные власти
распоряжаются всем и что они суть истолкователи права и
благочестия, они, однако, никогда не будут в состоянии заставить
людей не высказывать суждения о каких-нибудь вещах сообразно с их
собственным образом мыслей и соответственно не испытывать того
или иного аффекта. Верно, конечно, что власти по праву могут
считать врагами всех, кто с ними не согласен безусловно во всем, но
мы рассуждаем теперь не о праве их, но о том, что полезно. Я ведь
допускаю, что по праву они могут царствовать с величайшим
насилием и обрекать граждан на смерть по самым ничтожным
поводам; но никто не скажет, что это можно делать, не повредясь в
здравом рассудке. Более того, так как они могут это делать только с
большим риском для всего государства, то мы можем
259
259
также отрицать, что у них есть неограниченная мощь для этого и
подобных вещей, а следовательно, у них нет и неограниченного права
для этого, мы ведь показали, что право верховных властей
определяется их мощью.
И
так, если никто не может поступиться своей свободой судить и
мыслить о том, о чем он хочет, но каждый по величайшему праву
природы есть господин своих мыслей, то отсюда следует, что в
государстве никогда нельзя, не опасаясь очень несчастных
последствий, домогаться того, чтобы люди, хотя бы у них были
различные и противоположные мысли, ничего, однако, не говорили
иначе, как по предписанию верховных властей, ибо и самые опытные, не говоря уже о толпе, не умеют молчать. Это общий недостаток
людей — доверять другим свои планы, хотя и нужно молчать; следовательно, то правительство самое насильническое, при котором
отрицается свобода за каждым говорить и учить тому, что он думает, и, наоборот, то правительство умеренное, при котором эта самая
свобода дается каждому. Но поистине мы никоим образом не можем
отрицать, что величество может быть оскорблено столько же словом, сколько и делом; и, стало быть, если невозможно совершенно лишить
подданных этой свободы, то и, обратно, весьма гибельно будет
допустить ее неограниченно. Поэтому нам надлежит здесь
исследовать, до какого предела эта свобода может и должна даваться
каждому без ущерба для спокойствия в государстве и без нарушения
права верховных властей; это, как я в начале главы XVI напомнил, было здесь главной моей целью.
И
з выше объясненных оснований государства весьма ясно следует, что
конечная его цель заключается не в том, чтобы господствовать и
держать людей в страхе, подчиняя их власти другого, но, наоборот, в
том, чтобы каждого освободить от страха, дабы он жил в
безопасности, насколько это возможно, т.е. дабы он наилучшим
образом удерживал свое естественное право на существование и
деятельность без вреда себе и другому. Цель государства, говорю, не в
том, чтобы превращать людей из разумных существ в животных или
автоматы, но, напротив, в том, чтобы их душа и тело отправляли свои
функции, не подвергаясь опасности, а сами они пользовались
свободным разумом и чтобы они не соперничали друг с другом в
ненависти, гневе или хитрости и не относились враждебно
260
260
друг к другу. Следовательно, цель государства в действительности
есть свобода. Далее, мы видели, что для образования государства
необходимо было только одно, именно: чтобы вся законодательная
власть находилась у всех или нескольких, или у одного. Ибо так как
свободное суждение людей весьма разнообразно и каждый в
отдельности думает, что он все знает, и так как невозможно, чтобы все
думали одинаково и говорили едиными устами, то они не могли бы
жить мирно, если бы каждый не поступился правом действовать
сообразно с решением только своей души. Таким образом, каждый
поступился только правом действовать по собственному решению, а
не правом рассуждать и судить о чем-либо; стало быть, и никто без
нарушения права верховных властей не может действовать против их
решения, но вполне может думать и судить, а следовательно, и
говорить, лишь бы просто только говорил или учил и защищал свою
мысль только разумом, а не хитростью, гневом, ненавистью и без
намерения ввести что-нибудь в государстве благодаря авторитету
своего решения. Например, если кто показывает, что какой-нибудь
закон противоречит здравому рассудку, и поэтому думает, что он
должен быть отменен, если в то же время он свою мысль повергает на
обсуждение верховной власти (которой только и подобает
постановлять и отменять законы) и ничего между тем не делает
вопреки предписанию того закона, то он, конечно, оказывает услугу
государству, как каждый доблестный гражданин, но если, напротив, он делает это с целью обвинить в неправосудии начальство и сделать
его ненавистным для толпы или мятежно старается вопреки воле
начальства отменить тот закон, то он всецело возмутитель и
бунтовщик. Итак, мы видим, каким образом каждый, не нарушая
права и авторитета верховных властей, т.е. не нарушая мира в
государстве, может говорить [то] и учить тому, что он думает, именно: если он решение о всем, что должно сделать, предоставляет
им же и ничего против их решения не предпринимает, хотя и должен
часто поступать против того, что он считает хорошим и что он
открыто высказывает. Это, конечно, он может делать, не нарушая
справедливости и благочестия, даже должен делать, если хочет
показать себя справедливым и благочестивым, ибо, как мы уже
показали, справедливость зависит только отрешения верховных
властей и, стало быть, никто не может отсюда
261
261
быть справедливым, если он не живет по общепринятым решениям.
Высшее же благочестие (по тому, что мы в предыдущей главе
показали) есть то, которое проявляется в заботах о мире и
спокойствии государства, но оно не может сохраниться, если каждый
стал бы жить по изволению своего сердца; стало быть, и не
благочестиво делать по своему изволению что-нибудь против
решения верховной власти, подданным которой являешься, так как от
этого, если бы это каждому было позволено, необходимо последовало
бы падение государства. Даже более: он ничего не может делать
против решения и предписания собственного разума, пока он
действует согласно решениям верховной власти; он ведь по совету
самого разума всецело решил перенести на нее свое право жить по
собственному своему суждению. Впрочем, это мы можем подтвердить
и самой практикой, ибо в собраниях как высших, так и низших
властей редко что-нибудь делается по единодушному голосованию
всех членов, и, однако, все делается по общему решению всех, именно: как тех, кто подавал голос против, так и тех, кто подавал его
за. Но возвращаюсь к своей цели. Мы видели из оснований
государства, каким образом никто не может пользоваться свободой
суждения, не нарушая права верховных властей. А из этого не менее
легко мы можем определить, какие мнения в государстве суть
мятежнические: те именно, с принятием которых уничтожается
договор, по которому каждый поступился правом действовать по
собственному своему изволению. Например, если бы кто думал, что
верховная власть зависит не от себя самой или что никто не должен
сдерживать обещания, или что каждому нужно жить по своему
усмотрению и иное подобного рода, что прямо противоречит
вышесказанному договору, тот есть мятежник, но не столько, конечно, вследствие суждения и мнения, сколько вследствие факта, скрытого в
таких суждениях, потому что именно тем самым, что он думает нечто
такое, он нарушает клятву верности, данную мысленно или открыто
верховной власти. И потому прочие мнения, не скрывающие в себе
деяний вроде нарушения договора, мщения, гнева и пр., не суть
мятежнические; они таковы разве только в государстве, расшатанном
каким-либо образом, т.е. в таком, где суеверные и честолюбивые
люди, не способные переносить людей с благородным сердцем, приобрели такую славу своему имени,
262
262
что их авторитет у простого народа значит больше, нежели
[авторитет] верховных властей; мы, однако, не отрицаем, что бывают, кроме того, некоторые мнения, которые, хотя, по-видимому, просто
вращаются вокруг [вопросов] истины и лжи, предлагаются и
распространяются только с дурным намерением. Их мы тоже в главе
XV определили, но так, что разум тем не менее остался свободным.
Если же, наконец, мы обратим внимание и на то, что преданность
каждого государству, равно и богу может быть познана только из дел, именно: из любви к ближнему, то нам никоим образом нельзя будет
сомневаться в том, что наилучшее государство представляет каждому
ту же свободу философствования, какую, как мы показали, каждому
дает вера. Конечно, я признаю, что от такой свободы иногда
происходят некоторые неудобства; но было бы когда-либо
установлено что-нибудь столь мудро, что из него не могло произойти
какое-либо неудобство? Кто хочет все регулировать законами, тот
скорее возбудит пороки, нежели исправит их: что не может быть
запрещено, то необходимо должно быть допущено, хотя бы от того
часто и происходил вред. Ведь сколько происходит зол от роскоши, зависти, скупости, пьянства и т.д. Однако их терпят, потому что
властью законов они не могут быть запрещены, хотя на самом деле
они суть пороки. Поэтому свобода суждения тем более должна быть
допущена, что она, безусловно, есть добродетель и не может быть
подавлена. Прибавьте, что от нее не происходит никаких неудобств, которых (как сейчас покажу) нельзя было бы избежать при помощи
авторитета начальства; не говорю уже о том, что эта свобода в высшей
степени необходима для прогресса наук и искусств, ибо последние
разрабатываются с успехом только теми людьми, которые имеют
свободное и ничуть не предвзятое суждение.
Н
о положим, что эта свобода может быть подавлена и люди могут быть
так обузданы, что ничего пикнуть не смеют иначе, как по
предписанию верховных властей; все-таки решительно никогда не
удастся добиться, чтобы люди думали только то, что желательно
властям; тогда необходимо вышло бы, что люди постоянно думали бы
одно, а говорили бы другое и что, следовательно, откровенность, в
высшей степени необходимая в государстве, была бы изгнана, а
омерзительная лесть и вероломство нашли бы покровительство; отсюда обманы и порча всех
263
263
хороших житейских навыков. Но далеко не верно, что можно
достигнуть того, чтобы все говорили по предписанному; напротив, чем больше стараются лишить людей свободы слова, тем упорнее они
за нее держатся — конечно, держатся за нее не скряги, льстецы и
прочие немощные души, высочайшее благополучие которых состоит в
том, чтобы любоваться деньгами в сундуках и иметь ублаженный
желудок, но те, которых хорошее воспитание, чистота нравов и
добродетель сделали более свободными. Люди по большей части так
устроены, что они больше всего негодуют, когда мнения, которые они
считают истинными, признаются за вину и когда им вменяется в
преступление то, что побуждает их к благоговению перед богом и
людьми; от этого происходит то, что они дерзают пренебрегать
законами и делают против начальства все, что угодно, считая не
постыдным, но весьма честным поднимать по этой причине мятежи и
посягать на какое угодно злодейство. Итак, поскольку ясно, что
человеческая природа так устроена, то следует, что законы, устанавливаемые относительно мнений, касаются не мошенников, но
людей благородных и что они издаются не для обуздания злодеев, но
скорее для раздражения честных людей и не могут быть защищаемы
без большой опасности для государства. Прибавьте, что такие законы
совершенно бесполезны, ибо те, кто считает мнения, осужденные
законом, здоровыми, не будут в состоянии повиноваться законам; а те, кто, наоборот, отвергает такие мнения как ложные, принимают
осуждающие их законы как привилегии и до того их превозносят, что
потом начальство не имеет силы их отменить, хотя бы и желало.. К
этому присоединяется то, что мы вывели выше, в главе XVIII, из
истории евреев в п[ункте] 2. И, наконец, столько ересей в церкви
произошло большей частью оттого, что власти хотели законами
прекратить препирательства ученых! Ибо если бы люди не были
одержимы надеждой привлечь на свою сторону законы и начальство, торжествовать при всеобщем одобрении толпы над своими
противниками и приобрести почет, то они никогда не спорили бы со
столь неприязненным чувством и их душу не возбуждала бы такая
ярость. И этому учит не только разум, но и повседневный опыт; именно подобные законы, т.е. повелевающие то, во что каждый
должен верить, и запрещающие что-либо говорить или писать против
264
264
того или другого мнения, часто устанавливались в угоду или скорее в
виде уступки гневу тех, кто не может выносить свободных умов и
может благодаря грозному, так сказать, авторитету легко изменять
благоговение мятежного простонародья в бешенство и подстрекать
его против того, против кого они хотят [его] натравить. Но насколько
лучше было бы сдерживать гнев и ярость толпы, нежели
устанавливать бесполезные законы, которые могут нарушаться только
людьми, любящими добродетели и науки, и ставить государство в
столь затруднительное положение, что оно не может выносить
благородных людей! Можно ли выдумать большее зло для
государства, чем то, что честных людей отправляют как злодеев в
изгнание потому, что они иначе думают и не умеют притворяться?
Что, говорю, пагубнее, того, что людей считают за врагов и ведут на
смерть не за какое-либо преступление или бесчестный поступок, но
потому, что они обладают свободным умом и что эшафот —
страшилище дурных людей — становится прекраснейшим театром, где показывается высший пример терпения и добродетели на
посрамление величества? Ведь те, кто сознает себя честным, не боятся
подобно преступникам смерти и не умоляют отвратить наказание, потому что дух их не мучится никаким раскаянием в постыдном деле, но, наоборот, они считают честью, а не наказанием умереть за
хорошее дело и славным — умереть за свободу. Следовательно, что за
пример дается казнью таких людей, причины которой люди инертные
и слабодушные не знают, мятежные ее ненавидят, а честные уважают?
Каждому, конечно, она может служить только примером для
подражания или в крайнем случае поводом к лести.
Таким образом, для того чтобы в цене была не угодливость, но
чистосердечность и чтобы верховные власти лучше всего удерживали
господство и не были принуждены уступать мятежникам, необходимо
должно допустить свободу суждения и людьми так должно управлять, чтобы они, открыто исповедуя разные и противоположные мнения, все-таки жили в согласии. И мы не можем сомневаться в том, что этот
способ управления есть самый лучший и страдает меньшими
неудобствами, так как он наиболее согласуется с природой людей.
Ведь мы показали, что в демократическом государстве (которое
больше всего подходит к естественному состоянию) все
265
265
договариваются действовать по общему решению, а не судить и
размышлять, т.е. так как все люди не могут мыслить совершенно
одинаково, то они договорились, чтобы силу решения имело то, что
получило большее число голосов, сохраняя, между прочим, право
отменить это решение, когда увидят лучшее. Итак, чем менее дают
людям свободы суждения, тем более уклоняются от состояния
наиболее естественного и, следовательно, тем насильственнее
господствуют. Но, чтобы, далее, было ясно, что из этой свободы не
происходит никаких неудобств, которых нельзя было бы устранить
одним лишь авторитетом верховной власти, и что им одним легко
удержать людей от причинения обид друг другу, хотя бы они и
исповедовали открыто противоположные мнения, для этого примеры
налицо и мне не нужно их искать далеко. Примером может служить
город Амстердам, пожинающий, к своему великому успеху и на
удивление всех наций, плоды этой свободы; ведь в этой цветущей
республике и великолепном городе все, к какой бы нации и секте они
ни принадлежали, живут в величайшем согласии и, чтобы доверить
кому-нибудь свое имущество, стараются узнать только о том, богатый
он человек или бедный и привык ли он поступать добросовестно или
мошеннически. Впрочем, религия или секта нисколько их не волнуют, потому что перед судьей они нисколько не помогают выиграть или
проиграть тяжбу и нет решительно никакой столь ненавистной секты, последователи которой (лишь бы они никому не вредили, воздавали
каждому свое и жили честно) не находили бы покровительства в
общественном авторитете и помощи начальства. Наоборот, когда
однажды спор ремонстрантов и контрремонстрантов 90 относительно
религии начал разбираться политиками и чинами провинций, он в
конце концов перешел в схизму, и тогда на многих примерах
подтвердилось, что законы, издаваемые о религии с целью как раз
прекращения споров, более раздражают людей, нежели их
исправляют, что иные затем получают неограниченную вольность на
основании тех же законов; кроме того, ереси возникают не от
великого рвения к истине (т.е. к источнику приветливости и
кротости), но от великого желания господствовать. Из этого яснее
божьего дня видно, что те, кто осуждает сочинения других и мятежно
подстрекает буйную толпу против писателей, скорее суть схизматики, 266
266
нежели сами писатели, пишущие большей частью только для ученых
и призывающие на помощь только разум; видно также, что на самом-
то деле возмутители суть те, кто свободу суждения, которая не может
быть подавлена, хотят, однако, уничтожить в свободном государстве.
Этим мы показали: 1) что невозможно отнять у людей свободу
говорить то, что они думают; 2) что эта свобода без вреда праву и
авторитету верховных властей может быть дана каждому и что
каждый может ее сохранять без вреда тому же праву, если при этом он
не берет на себя никакой смелости ввести что-нибудь в государстве
как право или сделать что-нибудь против принятых законов; 3) что эту
самую свободу каждый может иметь, сохраняя мир в государстве, и
что от нее не возникает никаких неудобств, которых нельзя было бы
легко устранить; 4) что каждый может ее иметь также без вреда
благочестию; 5) что законы, издаваемые относительно спекулятивных
предметов, совершенно бесполезны; 6) наконец, мы показали, что эта
свобода не только может быть допущена без нарушения в государстве
мира, благочестия и права верховных властей, но ее должно
допустить, чтобы все это сохранить. Напротив, там, где стараются
отнять ее у людей и к суду привлекаются мнения разномыслящих лиц, а не души, которые только и могут грешить, там наказываются ради
примера честные люди. Эти примеры скорее кажутся мученичеством, и они не столько устрашают, сколько раздражают остальных и
побуждают скорее к состраданию, если не к отмщению; кроме того, хорошие житейские привычки и чистосердечность портятся, льстецы
и вероломные люди поощряются, и противники ликуют, что их гневу
уступили и что они сделали власть имущих приверженцами своего
учения, истолкователями которого они считаются. Вследствие этого
происходит то, что они осмеливаются присваивать себе авторитет и
право властей и не стыдятся хвастать, будто они непосредственно
избраны богом и их решения божественны, а решения верховных
властей, напротив, человеческие, которые поэтому должны уступать
божественным, т.е. их, решениям. Что все это, безусловно, противоречит благополучию государства, никто не может не знать.
Поэтому здесь, как выше, в главе XVIII, мы заключаем, что для
государства нет ничего безопаснее того, чтобы благочестие и религия
были ограничены
267
267
только исполнением любви и справедливости и чтобы право
верховных властей как в отношении священных дел, так и мирских
относилось только к действиям, а в остальном чтобы каждому
дозволялось и думать то, что он хочет, и говорить то, что он думает.
Этим я закончил то, что решил изложить в этом трактате. Остается
только специально напомнить, что я ничего в нем не написал такого, чего я весьма охотно не подверг бы разбору и суждению верховных
властей моего отечества. Ибо если они сочтут, что нечто из того, что я
сказал, противно отечественным законам или вредит общественному
благополучию, то и я хочу, чтобы это не было сказано. Я знаю, что я
человек и мог ошибиться, но я всячески старался о том, чтобы не
впасть в ошибку, а прежде всего о том, чтобы все, что я написал, вполне соответствовало законам отечества, благочестию и добрым
нравам.
268
ПРИМЕЧАНИЯ
К «БОГОСЛОВСКО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ ТРАКТАТУ»,
НАПИСАННЫЕ АВТОРОМ ПОСЛЕ ИЗДАНИЯ КНИГИ31
I
( к стр. 17)
Т
ретья коренная буква в глаголах, если она из тех, которые называются
покоящимися (quiescentes), обыкновенно опускается, а вместо нее вторая
буква основы удваивается, например, из«килах» по. опущении покоящейся
«х» делается «колал» (а из «ниба» делается «новев», откуда «нив сфасаим»
— разговор или речь; так из «ваза» делается «вазае» или «вуз»).
Т
аким образом, лучше всего истолковал это слово «ниба» Р. Соломон Ярхи 92, но оно плохо переводится Абен-Езрою, который еврейский язык не так
хорошо знал. Кроме того, должно заметить, что слово «нвуах» (пророчество) есть общее и обнимает собою всякий род пророчествования, остальные же
имена более специальные и большею частью относятся к тому или иному
роду пророчествования, что, думаю, известно ученым.
II
( к стр. 18)
Т
.е. истолкователь бога. Ибо истолкователь бога есть тот, кто решения бога
(ему открытые) истолковывает другим людям, которым они не были открыты
и которые, принимая их, опираются только на пророческий авторитет и
доверие, которое к нему имеется. Если бы люди, слушающие пророков, делались пророками, подобно тому как делаются философами те, которые
слушают философов, тогда пророк не был бы истолкователем божественных
решений, так как слушатели его опирались бы не на свидетельство и
авторитет этого пророка, но на само (божественное) откровение и внутреннее
свидетельство (как и сам пророк). Так, верховные власти суть истолкователи
права в своем государстве, потому что законы, ими данные, защищаются
только авторитетом самих верховных властей и только на их свидетельство
опираются.
269
269
III
( к стр. 30)
Х
отя некоторые люди имеют нечто, чего другим природа не дает, однако про
них не говорят, что они превышают человеческую природу, если присущие
им особенности не суть таковы, что их нельзя понять из определения
человеческой природы. Например, гигантский рост — редкое явление, но, однако, оно человеческое. Затем способность импровизировать стихами
дастся весьма немногим, тем не менее и она человеческая; равно и то, что
кое-кто с открытыми глазами воображает некоторые вещи столь живо, как
будто бы они находились перед ним. Но если бы нашелся кто, имеющий
другие средства восприятия и другие основания познания, тот, конечно, перешел бы границы человеческой природы.
IV
( к стр. 52)
В
гл. 15 Бытия рассказывается, что бог сказал Аврааму, что он его защитник и
даст ему весьма большое вознаграждение; на это Авраам возразил, что он
ничего уже не ждет для себя такого, что могло бы иметь какое-нибудь
значение, потому что он при маститой уже старости не имеет детей.
V
( к стр. 52)
Ч
то для вечной жизни недостаточно сохранять заповеди Ветхого завета, явствует из Марка, гл. 10, ст. 21.
( к стр. 91)
В
существовании бога, а следовательно, и во всем мы сомневаемся, пока имеем
о самом боге идею не ясную и отчетливую, но смутную. Ибо как тот, кто не
постиг правильно природу треугольника, не знает, что три угла его равны
двум прямым, так и тот, кто смутно понимает божественную природу, не
видит, что к природе бога принадлежит существование. Но для того, чтобы
природа бога могла пониматься нами ясно и отчетливо, необходимо, чтобы
270
270
мы обратили внимание на некоторые самые простые понятия, которые мы
называем общими, и связали с ними те, которые относятся к божественной
природе; тогда только и становится для нас ясным, что бог необходимо
существует и вездесущ; и вместе с тем тогда обнаруживается, что все, что мы
познаем, заключает в себе природу бога и через нее познается, и, наконец, что все то истинно, что мы адекватно познаем. Но об этом смотри
предисловие книги, озаглавленной «Основы философии, доказанные
геометрическим способом» 93.
VII
( к стр. 114)
Д
ля нас именно, не имеющих навыка в этом языке и нуждающихся в его
фразеологии.
VIII
( к стр. 119)
П
од постижимыми вещами (res perceptibiles) я разумею не только те, которые
законно доказываются, но и те, которые мы обыкновенно приемлем, основываясь на моральной достоверности, и о которых без удивления
слушаем, хотя они никак не могут быть доказаны. Предложения (теоремы) Эвклида кем угодно постигаются, прежде чем доказываются. Также рассказы
как о будущих, так и о прошедших событиях, которые не превышают
человеческой веры, равно права, постановления и нравы я зову постижимыми
и ясными, хотя они не могут быть доказаны математически. Но иероглифы и
рассказы, превышающие, по-видимому, всякое вероятие, я называю
непостижимыми; однако и в них есть многое, что на основании нашего
метода может быть исследовано с целью понять мысль автора.
IX
( к стр. 128)
И
менно историком, а не Авраамом, ибо он говорит, что место, которое ныне
зовется: «на горе божией будет открыто», было названо Авраамом: «бог
предусмотрит».
271
271
X
( к стр. 130)
С
этого времени до царствования Иорама, в которое они отпали от него (II Цар., гл. 8, ст. 20), Идумея не имела царей, но место царя заступали
наместники, поставленные иудеями (см. I Цар., гл. 22, ст. 48); поэтому
наместник Идумеи (II Цар., гл. 3, ст. 9) и называется царем. Но начал ли
царствовать последний из идумейских царей прежде, чем Саул был сделан
царем, или же Писание в этой главе Бытия только хотело передать о царях, которые умерли непобежденными, в этом можно сомневаться. Впрочем, совершенно заблуждаются те, которые хотят занести в каталог еврейских
царей Моисея, установившего по божественному внушению еврейское
государство, совсем несходное с монархическим.
XI
( к стр. 138)
Н
апр. во II Цар., гл. 18, ст. 20, читается во втором лице, «ты сказал, но только
устами» и пр., но у Исайи в гл. 36, ст. 5: «я сказал: конечно, это — слова; для
войны нужны совет и крепость». Потом в ст. 22 читается: «но, может быть, вы скажете»: во множественном числе, то что в книге Исайи встречается в
единственном числе. Кроме того в тексте Исайи нет следующих слов из
ст. 32 цитированной главы: «в землю масличных плодов и в землю меда; вы
будете жить и никогда не умрете».
П
одобным образом встречается много других разных чтений, и никто не
определит, какое именно из них должно быть выбрано предпочтительно пред
другими.
XII
( к стр. 139)
Н
апр. во II кн. Сам., в гл. 7, ст. 6, читается: «постоянно странствуя, я пребывал
в шатре и скинии», а в I Паралип., гл. 17, ст. 5: «я ходил из шатра в шатер и
из скинии в скинию», именно изменено «влишикан» в «мимишкан». Потом
ст. 10 цитированного места Самуила читается: «чтобы опечалить его», а в
Паралип., пит. гл., ст. 9: «чтобы истребить его». Подобным образом и много
других разногласий большей важности заметит, прочитавши хоть раз эти
главы, каждый, кто не совершенно слей и не совсем глуп.
272
272
XIII
( к стр. 139)
Ч
то этот текст имеет в виду только то время, в которое Иосиф был продан, не
только явствует из связи самой речи, но вытекает и из самого возраста Иуды, которому в то время был самое большее двадцать второй год от роду, если
позволительно сделать подсчет на основании предшествующей истории о
нем. Ибо из гл. 29, ст. последнего Бытия ясно, что Иуда родился в десятый
год от того момента, с которого патриарх Иаков начал служить Лавану, а
Иосиф — в четырнадцатый. Стало быть, коль скоро самому Иосифу при его
продаже был семнадцатый год от роду, то, следовательно, Иуде в то время
было от роду двадцать один год, не больше. Итак, те, которые думают, что
это продолжительное отсутствие Иуды из дома случилось до продажи
Иосифа, стараются обмануть себя и более беспокоятся о божественности
Писания, нежели уверены в нем.
XIV
( к стр. 140)
И
бо мнение некоторых лиц, будто Иаков 8 или 10 лет странствовал между
Месопотамией и Вефилем, отзывается, да простит мне Абен-Езра выражение, глупостью. Ибо не только вследствие желания, которым, без сомнения, Иаков был охвачен, видеть престарелых родителей, но также и для того, и
главным образом, чтобы исполнить обет, данный им, когда он убегал от
брата (смотри Быт., гл. 28, ст. 10, и гл. 31, ст. 13, и гл. 35, ст. 1), он, насколько
было возможно, торопился, и о выполнении этого бог напомнил ему (Быт., гл. 31, ст. 3 и 13) и обещал помочь ему вернуться в отечество. Если, однако, подобные догадки кажутся лучше, нежели доводы, ну тогда, конечно, можно
допустить, что Иаков употребил на этот короткий путь 8 или 10 и, если
угодно, много лет сверх этого, гонимый худшей судьбой, чем Одиссей 94.
Они, конечно, не в состоянии будут отрицать то, что Вениамин родился в
последний год этого странствования, т.е., по их гипотезе, в пятнадцатом или
шестнадцатом году от рождения Иосифа или около того. Ибо Иаков в
седьмом году от рождения самого Иосифа распростился с Лаваном; но от 17
года Иосифова возраста до года, в который сам патриарх пошел на чужую
сторону в Египет, насчитывают не более 22 лет, как мы показали в этой
самой главе; стало быть, Вениамин в то время, когда он отправился в Египет, имел самое большее 24 года; а известно, что он в этот цветущий возраст имел
внуков (см. Быт., гл. 46, ст. 21, что сравни с ст. 38, 39, 40, гл. 26 Числ. и со
ст. 1 и след. гл. 8, кн. I Паралип.). Ибо Вала, первенец Вениамина, уже родил
двух сыновей, Арда и Наамана. Это, конечно, чуждо разуму не менее, чем и
то, что Дина семи лет претерпела насилие, и остальное, что мы вывели из
хронологической последовательности в этой истории. И, стало быть, ясно, что несведущие люди, когда они стараются распутать затруднение, впадают в
другие и еще более запутывают и портят дело.
273
273
XV
( к стр. 141)
Т
.е. в других выражениях и в другом порядке, нежели они находятся в книге
Иисуса Навина.
XVI
( к стр. 141)
Р
авви Леви бен-Герсон 95 и другие думают, что эти 40 лет, про которые
Писание говорит, что они прожиты на свободе, берут, однако, начало от
смерти Иисуса Навина и, следовательно, содержат в себе одновременно 8
предыдущих годов, в которые народ был в подданстве X ушана Ришафаима, а 18 следующих должны быть включены также в счет 80 лет, в которые
судили Аод и Самгар, таким же образом думают, что и остальные годы
рабства всегда включаются в те, о которых Писание свидетельствует, что они
прожиты на свободе. Но так как Писание точно перечисляет, сколько лет
евреи были в рабстве и сколько на свободе, а в гл. 2, ст. 18, ясно
рассказывает, что дела евреев при жизни судей всегда процветали, то вполне
ясно, что тот раввин, человек, впрочем, весьма ученый, и остальные, шествующие по его стопам, стараясь распутать подобные узлы, скорее
исправляют Писание, нежели объясняют. Это же делают и те, которые
утверждают, что Писание хотело в том общем счете годов указать только
времена благоустройства иудейского; время же анархии и рабства, как
неблагоприятное и как бы переходное состояние царства, оно не могло
включить в общий счет годов. В действительности, хотя Писание
обыкновенно обходит молчанием времена безначалия, все-таки годы
порабощения оно передает не меньше, чем годы свободы, а не выключает их
из летописей, как снится [комментаторам]. А что Ездра в кн. I Цар. хотел
разуметь в том общем числе годов безусловно все годы от исхода из Египта, то это до того очевидное дело, что ни один сведущий в Писании человек
никогда в этом не сомневался. Ибо, не говоря уже о словах самого текста, сама генеалогия Давида, передаваемая в конце книги Руфи и I Паралип., гл. 2, едва допускает столь большую сумму лет. Ибо Наасон во 2 году от исхода из
Египта был князем племени Иуды (см. Числ., 7, ст. 11 и 12) и, стало быть, умер в пустыне, а сын его по той же генеалогии Давида был прапрадедом
Давида. Если из этой суммы 480 лет отнять 4 года царствования Соломона и
70 лет жизни Давида и 40 лет, которые были проведены в пустыне, то
окажется, что Давид родился в 366 году от [времени] перехода через Иордан; и" стало быть, необходимо, чтобы его отец, дед, прадед и прапрадед рождали
детей, будучи каждый из них 90 лет.
П
о-французски прибавлено: «и следовательно, едва ли бы насчитали от исхода
из Египта до 4-го года царствования Соломона 480 лет, если бы Писание
прямо не сказало этого».
274
274
XVII
( к стр. 142)
М
ожно сомневаться в том, следует ли относить эти 20 лет к годам свободы или
они заключатся в 40 непосредственно предшествующих, в течение которых
народ был под игом филистимлян. Что касается меня, то я признаюсь, что
вижу больше правдоподобия в последнем, и для меня вероятнее, что евреи
возвратили свою свободу, когда самые значительные из филистимлян
погибли с Самсоном. Отнес же я эти 20 лет судейства Самсона к тем, в
течение которых продолжалось иго филистимлян, только потому, что Самсон
родился после того, как филистимляне покорили евреев; кроме того, в
«Трактате о субботе» 96 сделано упоминание о некоей книге Иерусалима, где
сказано, что Самсон судил народ 40 лет; но вопрос не в этих только годах.
XVIII
( к стр. 144)
И
наче, они скорее исправляют слова Писания, нежели объясняют.
XIX
( к стр. 145)
К
ириаф-Иарим называется также «Ваал Иуды», вследствие чего Кимхи 97 и
другие думают, что «Ваалы Иуды», что я здесь перевел: «из народа Иуды», есть название города; но они ошибаются, потому что Ваал — форма
множественного числа. Потом, если этот текст из Самуила сличить с тем, который есть в I Паралип., то увидим, что Давид не вставал и не выходил из
Ваала, но что он туда шел. Если бы автор книги Самуила старался по крайней
мере указать место, откуда Давид взял ковчег завета, тогда, чтобы сказать по-
еврейски, он выразился бы так: и встал и отправился Давид и пр. из Ваала
Иуды и оттуда унес ковчег божий.
XX
( к стр. 145)
Т
е, которые брались объяснить этот текст, исправили его таким образом: «и
Авессалом убежал и возвратился к Фалмаю, сыну Амиуда, царя Гедсурского, где он оставался 3 года, и Давид
275
275
оплакивал своего сына все время, которое он был в Гедсуре». Но если это
называть толкованием и если позволительно допускать себе такую вольность
в изложении Писания и переставлять таким образом целые фразы, прибавляя
к ним или от них отнимая что-нибудь, то я признаю, что позволительно
извращать Писание и придавать ему, как куску воска, столько форм, сколько
пожелают.
XXI
( к стр. 151)
В
озникает это подозрение, если, конечно, можно назвать подозрением то, что
достоверно, из выведения генеалогии царя Иехонии, передаваемой в гл. 3, кн.
I Паралип. и доводимой до сыновей Елионея, которые были тринадцатыми от
него; и должно заметить, что у этого Иехонии, когда его заключили в оковы, не было детей, но кажется, что он родил детей в темнице, насколько можно
догадываться по именам, которые он им дал. Внуки же, насколько можно
догадываться тоже по их именам, были у него, по-видимому, после того, как
он был освобожден из темницы; и поэтому Педайя (что значит «бог
освободил»), о котором в этой главе говорится, что он был отцом Зоровавеля, родился в 37 или 38 году пленения Иехонии, т.е. 33 годами раньше, чем Кир
дал иудеям волю; и следовательно, Зоровавелю, которого Кир поставил во
главе иудеев, по-видимому, было самое большее 13 или 14 лет от роду. Но я
хотел бы лучше обойти это молчанием по причинам, объяснять которые не
позволяет тяжелое время. Но для разумных достаточно указать на одно
обстоятельство: если бы они пожелали просмотреть с некоторым вниманием
все это потомство Иехонии, о котором передается в гл. 3, кн. I Паралип., от
ст. 17 до конца самой главы, и сличить еврейский текст с переводом, который
называется переводом Семидесяти, то они будут в состоянии увидеть без
всякого затруднения, что эти книги были восстановлены после, а не прежде
второго возобновления столицы Иудою Маккавеем, в каковое время потомки
Иехонии потеряли княжеское достоинство.
XXII
( к стр. 154)
И
, стало быть, никто не мог бы предполагать, что его пророчество
противоречит предсказанию Иеремии, как все предполагали на основании
рассказа Иосифа, пока не узнали из исхода дела, что оба предсказывали
истину.
276
276
XXIII
( к стр. 156)
Ч
то большая часть этой книги заимствована из книги, написанной самим
Неемией, свидетельствует сам историк в ст. 1, гл. 1. Но что рассказ от гл. 8 до
ст. 26, гл. 12 и, кроме того, два последних стиха гл. 12, вставленные в скобках
в слова Неемии, прибавлены самим историком, жившим после Неемии, — не
подлежит сомнению.
XXIV
( к стр. 157)
Е
здра был дядей первому верховному первосвященнику—Иисусу, см. Ездры, гл. 7, ст. 1, и I Паралип., гл. 6, ст. 14, 15; и он одновременно с Зоровавелем
отправился из Вавилона в Иерусалим; см. Неем., гл. 12, ст. 1. Но кажется, что
он опять вернулся в Вавилонию, когда увидел, что дела иудеев
запутываются; это и другие сделали, как явствует из Неем., гл. 1, ст. 2; там он
оставался до царствования Артаксеркса, пока вторично не возвратился в
Иерусалим, получив то, чего желал; Неемия также возвратился в Иерусалим
с Зоровавелем во время Кира; см. Ездры, гл. 2, ст. 2 и 63, которого сличи с
ст. 9, гл. 10, и Неем., гл. 10, ст. 1. Ибо перевод толковниками слова
«хатиршата» словом «посол» не подтверждается у них ни одним примером, между тем как, наоборот, известно, что иудеям, которые должны были
посещать царский двор, давались новые имена. Так, Даниил был назван
Валтасаром, Зоровавель — Сасавесаром (см. Дан., гл. 1, ст. 7, Ездры, гл, 1, ст. 8, и гл. 5, ст. 14), а Неемия — Хатиршатою. Но его по отношению к
должности обыкновенно величали «пеха» — начальником области или
наместником; см. Неем., гл. 5, ст. 14, и гл. 12, ст. 26. Несомненно, следовательно, что Хатиршата есть имя собственное, как Хацлелпони, Хацовева (I Паралип., гл. 4, ст. 3, 8), Халохеш (Неем., гл. 10, ст. 25) и т.д.
XXV
( к стр. 161)
С
инагога, называемая Великой, получила начало только после того, как Азия
была покорена македонянами. Что же касается утверждений Маймонида, р.
Авраама бен-Давида 98 и других, будто президентами этого собрания были
Ездра, Даниил, Неемия, Аггей, Захария и др., ти это — смешная выдумка, и
утверждения эти опираются не на иное основание, как на предание раввинов, сообщающих, что персидское царство устояло 34 года, не больше.
277
277
И
другим способом они не могут подтвердить, что решения той Великой
синагоги, или синода, почитаемого только фарисеями, были получены от
пророков, которые получили их от других пророков и так далее до Моисея, который получил их от самого бога и передал устно, а не письменно
потомкам. Но пусть этому верят фарисеи с обычным для них упорством.
Разумные же люди, знающие о причинах соборов и синодов и вместе с тем о
спорах фарисеев и саддукеев, будут в состоянии легко догадаться о причинах
созыва той Великой синагоги или собрания. Несомненно то, что на этом
собрании никакие пророки не присутствовали и что решения фарисеев, которые они называют преданиями, получили авторитет благодаря тому же
собранию.
XXVI
( к стр. 162)
Λ
ογίζομαι переводят толкователи этого места через «заключаю» и утверждают, что оно употребляется Павлом в смысле δυλλογιζομαι; между тем, однако, Λογίζομαι у греков значит то же самое, что у евреев «хашаф» — «считать, думать, полагать»; в этом значении оно лучше всего согласуется и с
сирийским текстом. Ведь сирийский перевод (если, конечно, он перевод, в
чем можно сомневаться, так как мы не знаем ни переводчика, ни времени, в
которое перевод появился, а природный язык апостолов был не какой иной, как сирийский) передает этот текст Павла так: methrahgenan hochil, что
Тремеллий 99 весьма хорошо переводит: «итак, мы мним». Ибо имя
существительное rehgjon, которое образуется от этого глагола, означает
мнение; а rehgjono (по-еврейски rahgava) — воля: следовательно, methrahgenan — «мы волим», или «думаем».
XXVII
( к стр. 167)
Т
.е. то, чему Иисус Христос учил на горе и о чем святой Матфей упоминает в
гл. 5 и следующих.
XXVIII
( к стр. 194)
С
м. «Толкователь Писания», стр. 75.
(
Есть книга, озаглавленная: «Philosophia S. Scripturae Interpres; Exercitatio Paradoxa etc. Eleutheropoli», 1666 100.
278
278
Т
ам, на стр. 75, излагается, не знаю чье, мнение, в следующих словах: «Когда
Св. Писание где-нибудь чему-либо ясно и откровенно учит или δογματίζει 101, а в другом месте случайно и путем логического заключения утверждает, по-
видимому, противоположное, тогда то ясное место должно понимать в
собственном смысле и согласно букве, другое же должно истолковывать
иносказательно и согласно с первым. Напр., Св. Письмена ясно δογματιζουσι, что бог есть един, а в других местах бог говорит во множественном числе, из
чего, по-видимому, следует, что он не есть един. И так как первому учат
неприкровенно, второе же выводится посредством логического заключения
из него, то нужно будет принимать последние тексты не в собственном
смысле, но излагать согласно с теми, которые обязательно принять в
собственном смысле. Подобным образом повелевается, что должно
остерегаться воображать бога телесным; ибо в 4 гл. Второзак. говорится: «вы
должны очень остерегаться (ибо вы не заметили какого-либо изображения и
пр.) делать изваяние, изображение какого-либо кумира» и пр. И потом: «если
вы сделаете изваяние, изображение какой-либо вещи и пр., свидетельствуюсь
пред вами сегодня небом и землей, что вы совершенно пропадете весьма
скоро с земли той», и пр. В этих местах ясно преподается, что бог бестелесен.
И посему эта заповедь, а не разум, обязывает нас все тексты, из которых, по-
видимому, можно заключить, что бог телесен, толковать на основании этой
заповеди».)
XXIX
( к стр. 197)
«
Толкователь Писания», стр. 76.
(
На стр. 76 указанной сейчас книги, вопреки мнению, которое мы сейчас
изложили, оспаривается как этот, так и другой взгляд. Но пусть мы
согласились, что в свящ. книгах что-нибудь ясно и очевидно выражено. Итак, если бы они δογματίζουσαί утверждали, что ничто есть нечто или нечто есть
ничто, то должно ли их, как бы они ни противоречили нашему разуму, понимать в собственном смысле и таким образом, что они гласят что-нибудь?
Конечно, «пусть верит иудей Апелла, а не я» 102.
И
ни одно здравомыслящее существо, да и сам он пусть не верит. Ведь он, когда Писание, по-видимому, противоречит себе, принужден будет признать, что пользоваться разумом позволительно, дабы можно было распознать, какие именно места должно понимать и толковать в собственном и какие в
несобственном и иносказательном смысле. Таковы суть: «Бог не движим
раскаянием», Числ. 23, 23; I Сам. 15, 29 и пр.; «Он раскаялся в том, что
сотворил человека», Быт. 6, 6, и «в том зле, о котором он сказал, что он
сделает народу своему», Исх. 32, 14. И весьма многое другое в этом роде
встречается тут и там».)
279
279
XXX
( к стр. 202)
«
Толкователь Писания», стр. 113.
(
Той же книги на странице по счету 133 (хотя на ней и на остальном эпилоге
номер страницы не поставлен) читается следующее: «Одно [затруднение], и
притом не маловажное, по нашему мнению, мы постараемся устранить, твердо убежденные, что по устранении его все остальное будет гладко и
ясно. Состоит же оно в том, что, буде философия, согласно с тем, что мы
утверждали, есть мерило толкования Св. Письмен, сами Св. Письмена
казались бы бесполезными и напрасно написанными и переданными нам».
Сущность ответа, который потом дается, приблизительно состоит в
следующем: «[Слова] суть только повод или побуждение, благодаря
которому разум поощряется и побуждается внимательнее рассматривать и
сравнивать между собою идеи и уметь таким образом необходимо включать
одну в другую. Теперь же, так как все книги состоят и составляются из
связных и соединенных между собою речей, то весьма очевидно следует, что
высшая и самая большая польза, какую можно получить при правильном и
тщательном познании и разумении вещей, состоит только в том, что они
заставляют читателя мыслить и побуждают его рассматривать ясные и
отчетливые и обозначенные словами в тех книгах идеи, которые уже
сформированными имеются у него в уме, сравнивать идеи между собою и
исследовать, включена ли одна в другую или связана с ней; но никоим
образом они не могут сами по себе или сами собою привести разум к
истинному познанию вещей, а тем менее могут они вложить или влить в ум, или запечатлеть, или иным каким способом породить в нем ясные и
отчетливые идеи, если последние раньше не были влиты и вложены в него.
Отсюда ясно, что не лишне прибегать к Писанию и советоваться с ним: конечно, не ради того, чтобы оно или породило истину в наших умах, или
показало ее яснее или отчетливее, или сделало ее более прочною, но ради
того, как мы сказали, что оно доставляет случай и материал для
размышления, и именно о таких вещах, о которых, может быть, в другое
время мы никогда и не подумали бы. Также относительно вещей, касающихся высшего блаженства людей и, стало быть, для них более
выгодных, чем все остальное, а не относительно изучения истины польза
Писания и весьма велика и резко должна противополагаться пользе других
книг».)
XXXI
( к стр. 202)
Т
.е. не разум, но откровение, как явствует из доказанного в гл. IV, может учить
тому, что для спасения или блаженства достаточно принимать божественные
решения за права или заповеди и что не нужно понимать их как вечные
истины.
280
280
XXXII
( к стр. 206)
В
гражданском состоянии, где на основании общего права решается, что есть
благо и что есть зло, правильно различается обман во благо и обман во зло.
Но в естественном состоянии, где каждый себе судья и имеет верховное
право предписывать себе и толковать законы и отменять их, смотря по тому, как ему лучше заблагорассудится, там, конечно, не может быть мыслимо, что
кто-нибудь действует с злостным обманом.
ХХХIII
( к стр. 209)
В
каком бы государстве человек ни был, он может быть свободен. Ибо
человек, несомненно, постольку свободен, поскольку он руководится
разумом. Но разум (заметьте, Гоббс думает иначе) всячески советует мир; последний же может удержаться только в том случае, когда общие права
государства сохраняются ненарушенными. Следовательно, чем более человек
руководится разумом, т.е. чем более он свободен, тем постояннее он будет
сохранять права государства и исполнять приказание верховной власти, подданным которой он состоит.
XXXIV
( к стр. 213)
П
авел, утверждая, что у людей нет отговорки, говорит это по человеческому
обычаю. Ибо в гл. 9 того же Послания он ясно учит, что бог жалеет, кого
хочет, и ожесточает, кого хочет, и что людям нет прощения только по той
причине, что они находятся во власти бога, как глина во власти горшечника, который из одной и той же массы делает сосуды один для почетного, другой
для низкого употребления, а не потому, что они получили предостережение.
Что же касается естественного божественного закона (lex divina naturalis), высшее предписание которого состоит, как мы сказали, в любви к богу, то я
называл его законом в том смысле, в каком философы называют законами
общие правила природы, по которым все совершается. Ведь любовь к богу
есть не повиновение, но добродетель, необходимо присущая человеку, который правильно познал бога. Но повиновение имеет в виду волю
повелевающего, а не необходимость вещи и истину. А так как мы не знаем
природы воли бога и, наоборот, достоверно знаем, что все, что делается, делается только вследствие могущества бога, то мы не иначе как из
откровения можем
281
281
знать, хочет ли бог, чтобы люди воздавали ему почитание, как государю.
Прибавьте и то, что, как мы показали, божественные права (jura divina) кажутся нам правами или установлениями (instituta), пока мы не знаем их
причины; когда же она узнана, то они тотчас перестают быть правами, и мы
принимаем их как вечные истины, а не как права, т.е. повиновение тотчас
переходит в любовь, которая с такой же необходимостью происходит от
истинного познания, с какою свет от солнца. Итак, вследствие руководства
разума мы можем именно любить бога, но не повиноваться ему, так как
разумом мы не можем ни принять божественные права за божественные, пока мы не знаем их причины, ни понимать бога как государя, который
устанавливает права.
XXXV
( к стр. 217)
Д
ва простых солдата вздумали изменить власть над римским народом и
изменили. Тац. в I кн. Ист. 103.
XXXVI
( к стр. 223)
В
этом месте обвиняются двое в том, что они пророчествовали в стане, и
Иисус думает, что их должно взять под стражу; этого он не сделал бы, если
бы было позволительно каждому без приказания Моисея давать народу
божественные ответы. Но Моисею было угодно простить виновных, и он
упрекает Иисуса за то, что он советовал ему применить свое царское право в
то время, когда его охватила такая досада на владычество, что он лучше
желал умереть, нежели владычествовать один, как явствует из ст. 14 той же
главы. Он ведь так отвечает Иисусу: «Не из-за меня ли ты горячишься? О
если бы весь народ божий был пророком!», т.е.: о если бы право совещаться с
богом дошло до того, что власть очутилась бы у самого народа! Итак, Иисусу
были неизвестны не права, но обстоятельства времени, а потому Моисей его
и порицает, как Давид Авессу, когда последний советовал царю предать
смерти Семен, бывшего, несомненно, виновным в оскорблении величества.
См. II Сам., гл. 19. ст. 22, 23.
XXXVII
( к стр. 224)
С
т. 19 и 23 этой главы, которые мне пришлось видеть, переводчики плохо
передают. Ибо ст. 19 и 23 не обозначают, что он дал ему предписания или
преподал наставления, но что он сделал или поставил Иисуса князем, что в
Писании часто встречается, напр. Исх., в гл. 18, ст. 23; I Сам., в гл. 13, ст. 14; Иисуса Навина в гл. 1, ст. 9, и I Сам., в гл. 25, ст. 30, и пр.
282
282
Ч
ем больше переводчики стремятся передать слово в слово стихи 19 и 23 этой
главы, тем менее понятно они переводят их; и я уверен, что очень мало лиц
понимает их истинный смысл, ибо большинство людей воображает, что в
стихе 19 бог приказывает Моисею преподать Иисусу наставления в
присутствии народного собрания, а в стихе 23, что он возложил на него руки
и наставил его. Они не обращают внимания на то, что этот способ выражения
весьма употребителен у евреев при объявлении законности избрания князя и
утверждении его в сане. Так, Иофор, советуя Моисею избрать помощников, которые помогали бы ему судить народ, говорит: «Если ты сделаешь это
(говорит он), тогда бог повелит тебе». Он как бы сказал, что его авторитет
будет прочен и в состоянии будет действовать; относительно этого смотри
Исх., гл. 18, ст. 23, и I Сам., гл. 13, ст. 15, и гл. 25, ст. 30, а в особенности гл. 1
Иисуса Навина, в ст. 9, где бог говорит ему: «Не приказал ли я тебе: будь
мужествен и покажи себя твердым», как будто бог сказал ему: не я ли
поставил тебя князем? не страшись же ничего, ибо я всюду с тобою.
XXXVIII
( к стр. 227)
Р
аввины воображают, что Великий, как обыкновенно называют, синедрион
был установлен Моисеем; и не одни раввины, но весьма многие и из
христиан заодно с раввинами утверждают эту нелепость. Моисей, точно, избрал себе 70 помощников, которые заботились с ним о государстве, так как
он один не мог выдержать бремя всего народа; но он никогда не давал
никакого закона об установлении 70-членной коллегии, но, напротив, повелел, чтобы каждое колено поставило в городах, данных ему богом, судей, которые решали бы тяжбы по законам, от него данным, а если бы
случилось, что сами судьи стали сомневаться относительно права, тогда они
должны прийти к верховному первосвященнику (который именно и был
верховным толкователем законов) или к судье, которому они в то время были
бы подчинены (ибо он имел право совещаться с первосвященником), и
согласно объяснению первосвященника решать тяжбы. Если бы случилось, что подчиненный судья утверждал, что он не обязан постановлять приговор
сообразно с мыслью верховного первосвященника, которую он узнал от него
самого или через его верховную власть, то он осуждался на смерть; и
осуждался именно тем бывшим в ту пору высшим судьей, которым
подчиненный судья был назначен (см. Второзак., гл. 17, ст. 9), т.е. [тем, кто
мог действовать] либо как Иисус, в качестве верховного вождя всего народа
израильского; либо как князь одного колена, который после совершившегося
разделения имел право совещаться с первосвященником о делах своего
колена, о решении войны и мира, укреплении городов, назначении судей и
пр., или как царь, на которого все или несколько колен перенесли свое право.
В подтверждение же этого я мог бы привести много свидетельств из истории, но из многих приведу одно, которое кажется наиболее важным. Когда пророк
Силонитянин избрал Иеровоама царем, то он этим самым дал ему право
совещаться с первосвященником,
283
283
поставлять судей; и, безусловно, все право, которое Ровоам удержал над
двумя коленами, Иеровоам целиком получил над десятью. Поэтому
Иеровоам с таким же правом, с каким Иосафат в Иерусалиме (см. II Паралип., гл. 19, ст. 8 и сл.), мог учредить при своем дворце высший совет
для своего государства. Ибо известно, что, поскольку Иеровоам был царем по
повелению бога, следовательно, и подданные его по закону Моисея не были
обязаны являться, как к судье, к Ровоаму, подданными которого они не были, а тем более не были обязаны являться на суд иерусалимский установленный
Ровоамом и ему подчиненный. Итак, смотря по тому, на сколько частей
разделялось государство евреев, столько и верховных советов в нем было. Те
же, которые не обращают внимания на переменчивость состояния евреев, но
разные их состояния сливают в одно, всячески запутываются.
XXXIX
( к стр. 258)
З
десь в особенности должно обратить внимание на то, что мы сказали
относительно права в гл. XVI.
284
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ
в котором показывается, каким образом
должно быть устроено общество, там,
где имеет место монархическое правление,
а равно и там, где правят знатные,
дабы оно не впало в тиранию
и дабы мир и свобода граждан
оставались ненарушимыми 1
ПЕРЕВОД С ЛАТИНСКОГО
С.М. Роговина и Б.В. Чредина
285
TRACTATUS POLITICUS
IN QUO DEMONSTRATUR,
QUOMODO SOCIETAS,
ubi Imperium Monarchicum
locum habet, sicut et ea,
ubi Optimi imperant,
debet institui,
ne in Tyrannidem labatur,
et ut Pax Libertasque civium
inviolata maneat
286
ГЛАВА I
ВВЕДЕНИЕ
§ 1. Философы смотрят на волнующие нас аффекты, как на пороки, в которые люди впадают по своей вине; поэтому они имеют
обыкновение высмеивать их, порицать или клясть (последним
занимаются те, кто не прочь надеть личину святости). Превознося, таким образом, на все лады ту человеческую природу, которой нигде
нет, и позоря ту, которая существует на самом деле, они убеждены, что предаются самому возвышенному делу и достигают вершины
мудрости. Ибо людей они берут не такими, каковы те суть, а какими
они хотели бы их видеть. В результате этого вместо этики они по
большей части писали сатиру и никогда не создавали политики, которая могла бы найти приложение; их политика может с успехом
сойти за химеру или осуществиться в Утопии 2, или в том золотом
веке поэтов, где она менее всего необходима. Создалось поэтому
убеждение, что рознь между теорией и практикой, имеющаяся во всех
прикладных науках, более всего проявляется в политике; и никто не
считается менее способным к управлению государством, нежели
теоретики или философы.
§
2. Что касается политиков, то, по общему мнению, они скорее строят
людям козни, чем заботятся о них, и поэтому они слывут скорее
хитрецами, чем мудрецами.
287
287
Опыт, конечно, научил их тому, что пороки будут, доколе будут люди.
Поэтому, когда они стремятся обуздать человеческую злобу и притом
теми приемами, которым научил их долгий опыт и которые люди
применяют, руководясь более страхом, чем разумом, они
представляются действующими вразрез с религией, в особенности
теологам, убежденным, что верховная власть должна вести
государственные дела в согласии с теми же правилами благочестия, которые обязательны для частного человека.
Н
е может, однако, быть сомнения в том, что сами политики писали о
политических предметах с большим успехом, нежели философы. Имея
наставником опыт, они не учили ничему такому, что не могло бы
найти применения.
§
3. Я же вполне убежден, что опыт показал все виды государств, которые можно только представить для согласной жизни людей, и
вместе с тем средства, пользуясь которыми можно управлять
народной массой (multitudo) и сдерживать ее в известных границах; так что я не думаю, чтобы мы могли силою мышления добиться в этой
области чего-нибудь такого, что, не идя вразрез с опытом или
практикой, не было, однако, до сих пор испытано и испробовано. Ведь
люди устроены таким образом, что не могут жить вне какого-нибудь
общего права; общее же право установлено и государственные дела
ведутся людьми наиспособнейшими (хотя бы и коварными или
хитрыми), поэтому едва ли вероятно, чтобы мы могли придумать что-
либо небесполезное всему обществу, на что не натолкнул еще случай
и что просмотрели люди, занятые общими делами и заботящиеся о
своей безопасности.
§
4. Итак, мысленно обращаясь к политике, я не имел в виду высказать
что-либо новое или неслыханное, но лишь доказать верными и
неоспоримыми доводами или вывести из самого строя человеческой
природы то, что наилучшим образом согласуется с практикой. И для
того, чтобы относящееся к этой науке исследовать с тою же свободой
духа, с какой мы относимся обыкновенно к предметам математики, я
постоянно старался не осмеивать человеческих поступков, не
огорчаться ими и не клясть их, а понимать. И потому я рассматривал
человеческие аффекты, как-то: любовь, ненависть, гнев, зависть, честолюбие, сострадание и прочие движения души —
288
288
не как пороки человеческой природы, а как свойства, присущие ей так
же, как природе воздуха свойственно тепло, холод, непогода, гром и
все прочее в том же роде; все это, хотя и причиняет неудобства, однако же необходимо и имеет определенные причины, посредством
которых мы пытаемся познать их природу, и истинное созерцание их
столь же радостно для духа, как и познание тех вещей, которые
приятны чувствам.
§
5. Ведь несомненно (и в нашей «Этике» мы доказали истинность
этого), что люди необходимо подвержены аффектам и устроены таким
образом, что к тем, кому плохо, они чувствуют жалость, кому хорошо,
— зависть, и что они более склонны к мести, нежели к состраданию, и, кроме того, каждый стремится, чтобы другие жили по его нраву, одобряли то, что он одобряет, и отвергали то, что отвергает он. В
результате этого, когда все [люди] равно стремятся быть первыми, они
приходят в столкновение и, насколько это зависит от них, стараются
одолеть друг друга; тот же, кто выходит победителем, более горд
вредом, причиненным другому, нежели пользой, принесенной себе. И
хотя все убеждены, что религия учит противоположному, а именно
любить ближнего, как самого себя, т.е. защищать право другого
наравне со своим собственным, однако это убеждение, как мы
показали, почти бессильно перед аффектами. Оно сказывается, правда, на смертном одре, когда именно смерть победила самые
аффекты и человек лежит беспомощный, или в храмах, где люди не
занимаются делами; но менее всего проявляется оно на форуме или во
дворце, где оно более всего нужно. Мы показали, кроме того, что
разум (Ratio) может, правда, многое сделать для укрощения аффектов
и управления ими, но в то же время мы видели, что путь, указываемый
самим разумом, чрезвычайно труден, так что те, кто тешит себя
мыслью, что народную массу или стоящих у власти можно склонить
руководствоваться в их жизни одним разумом, те грезят о золотом
веке поэтов или о сказке.
§
6. Поэтому государство (imperium), благоденствие которого зависит
от чьей-либо совестливости и дела которого могут вестись
надлежащим образом только при том условии, что занимающиеся ими
захотят действовать добросовестно, будет наименее устойчивым; но
для того, чтобы оно могло устоять, его дела должны быть упоря-
289
289
дочены таким образом, чтобы те, кто направляет их, не могли быть
склонены к недобросовестности или дурным поступкам, все равно
руководствуются ли они разумом или аффектами. Да для
безопасности государства и не важно, какими мотивами
руководствуются люди, надлежащим образом управляя делами, лишь
бы эти последние управлялись надлежащим образом. Ибо свобода или
твердость (fortitudo) души есть частная добродетель, добродетель же
государства — безопасность (securitas).
§
7. И, наконец, так как все люди — как варвары, так и цивилизованные
— повсюду находятся в общении и образуют некоторое гражданское
состояние, то ясно, что причин и естественных основ государства
следует искать не в указаниях разума (Ratio), но выводить из общей
природы или строя людей. Это я и решил сделать в следующей главе.
ГЛАВА II
О ЕСТЕСТВЕННОМ ПРАВЕ
§
1. В нашем «Богословско-политическом трактате» мы вели речь о
естественном и гражданском праве, а в нашей «Этике» мы выяснили, что такое преступление (рессаtum), заслуга, справедливость, несправедливость и, наконец, что такое человеческая свобода. Но для
того, чтобы читающие этот трактат не имели нужды искать в других
сочинениях то, что составляет существо настоящего, я решил вновь
выяснить это здесь и обстоятельно доказать.
§
2. Каждая естественная вещь может быть представлена адекватно, независимо от того, существует ли она или нет. Поэтому как начало
существования естественных вещей, так и их пребывание (упорство
— perseverantia) в существовании не могут быть выведены из их
определения (definitio). Ибо их идеальная сущность остается той же
самой после начала существования, какой она была до начала.
Следовательно, как начало их существования, так и их пребывание в
существовании не могут следовать из их сущности, но для
продолжения существования они нуждаются в той же мощи, в какой
нуждались для его начала. Отсюда следует, что мощь естественных
вещей, благодаря которой они существуют, а следовательно, 290
290
и действуют, не может быть ничем другим, как самой вечной мощью
(могуществом — potentia) бога. Ведь если бы это была какая-нибудь
другая, сотворенная [мощь], то она не могла бы сохранить самое себя, а следовательно, и другие естественные вещи; но сама для пребывания
в существовании нуждалась бы в той же мощи, в какой нуждалась для
его начала.
§
3. Отсюда же, т.е. из того, что мощь естественных вещей, благодаря
которой они существуют и действуют, есть сама мощь бога, мы легко
поймем, что такое право природы. Ведь так как бог имеет право на
все, и право бога есть не что иное, как сама мощь бога, поскольку она
рассматривается, как абсолютно свободная, то отсюда следует, что
каждая естественная вещь имеет от природы столько права, сколько
имеет мощи для существования и действования; ибо мощь каждой
естественной вещи, благодаря которой она существует и действует, есть не что иное, как сама мощь бога, которая абсолютно свободна.
§
4. Итак, под правом природы я понимаю законы или правила, согласно которым все совершается, т.е. самую мощь природы. И
потому естественное право всей природы и, следовательно, каждого
индивидуума простирается столь далеко, сколь далеко простирается
их мощь. Значит, все то, что каждый человек совершает по законам
своей природы, он совершает по высшему праву природы и имеет в
отношении природы столько права, какой мощью обладает.
§
5. Если бы с человеческой природой дело обстояло таким образом, что люди жили бы по предписанию разума и не уклонялись бы в
сторону, то право природы, поскольку оно рассматривается как
свойственное человеческому роду, определялось бы одной мощью
разума. Но люди скорее следуют руководству слепого желания, чем
разума; и потому естественная мощь, или право людей, должно
определяться не разумом, но тем влечением (appetitus), которое
определяет их к действию и которым они стремятся сохранить себя. Я
признаю, конечно, что те желания, которые возникают не из разума, суть не столько деятельные состояния человека (actiones), сколько
страдательные (passiones). Но так как мы говорим здесь о совокупной
мощи природы, или праве, то с этой точки зрения мы не можем
признать никакой разницы между желаниями, возникающими из
разума,
291
291
и желаниями, возникающими из других причин; ибо как те, так и
другие суть действия природы и выражают ту естественную силу, которой человек стремится утвердиться (упорствовать — perseverare) в своем бытии. Ведь человек — мудр ли он или невежествен — есть
часть природы, и все то, чем каждый определяется к действию, должно быть отнесено к мощи природы, поскольку именно она может
быть определена природой того или другого человека. Ибо человек —
все равно, руководствуется ли он разумом или одним только
желанием, — действует исключительно лишь по законам и правилам
природы, т.е. (согласно § 4 наст. гл.) по естественному праву.
§
6. Большинство же убеждено в том, что невежды скорее нарушают
порядок природы, чем ему следуют, и что люди в природе являются
как бы государством в государстве. Ибо, по их мнению, дух не
создается какими-либо естественными причинами, но творится
непосредственно богом и настолько независим от остальных вещей, что имеет абсолютную власть самоопределения и надлежащего
пользования разумом. Но опыт с полной убедительностью учит нас
тому, что не более в нашей власти иметь здоровый дух, чем здоровое
тело. Затем так как каждая вещь стремится, насколько это зависит от
нее, сохранить свое бытие, то мы отнюдь не можем сомневаться в том, что, будь равно в нашей власти как жить по предписанию разума, так
и руководствоваться слепым желанием, все руководствовались бы
разумом и мудро устраивали бы свою жизнь. А это бывает весьма
редко, так как каждый влеком своею страстью (voluptas). Не
разрешают этой трудности и те теологи, которые утверждают, что
причиной этой немощности является порок человеческой природы, или грех, ведущий начало от грехопадения прародителя. Ведь если во
власти первого человека было как устоять, так и пасть и если при
полном обладании своим духом он был неиспорчен по природе, то кто
мог добиться того, чтобы он, знающий и разумный, все же пал? «Он
был обманут дьяволом», — отвечают на это. Но кто же был
обманувший самого дьявола? Кто, спрашиваю я, сделал его самого, совершеннейшее из всех разумных созданий, столь безумным, что он
захотел стать выше бога? Разве не стремился он, существо со
здоровым духом, сохранить, насколько то зависело от него, себя
самого и свое бытие? Затем, кто мог добиться, чтобы первый
292
292
человек, располагавший своим духом и являвшийся господином своей
воли, был обольщен и позволил лишить себя обладания своим духом?
Ибо если бы в его власти было надлежаще пользоваться разумом, то
он не мог бы быть обманут; ведь он необходимо должен был
стремиться сохранить, насколько это зависело от него, свое бытие и
свой здравый дух. Но предполагается, что это было в его власти; следовательно, он необходимо должен был сохранить свой здравый
дух и не мог быть обманут. Но его история свидетельствует об
обратном. И потому следует признать, что надлежащее пользование
разумом не было во власти первого человека, но что он, как и мы, был
подвержен аффектам.
§
7. А что человек, как и прочие индивидуумы, стремится, поскольку
это зависит от него, сохранить свое бытие, — этого отрицать никто не
может. Ибо если здесь может быть представлено какое-нибудь
различие, то оно должно проистекать из того, что человек обладает
свободной волей. Но, чем более свободным мы будем представлять
себе человека, тем более будем мы вынуждены допустить, что он
необходимо должен сохранять себя и владеть своим духом (душой —
mens), — с этим охотно согласится всякий, не смешивающий свободы
со случайностью. Ибо свобода есть добродетель, или совершенство.
Поэтому все, что обличает немощность (impotentia) человека, не
может относиться к его свободе. Вследствие этого человек менее
всего может быть назван свободным на том основании, что он может
не существовать или не пользоваться разумом, но лишь поскольку он
властен существовать и действовать согласно законам человеческой
природы. Поэтому, чем более свободным будем мы представлять себе
человека, тем менее сможем мы сказать, что он может не пользоваться
своим разумом или предпочитать зло добру; и потому бог, который
абсолютно свободно существует, мыслит и действует, мыслит и
действует также необходимо, а именно по необходимости своей
природы. Ибо несомненно, что бог действует с тою же
необходимостью, с какой существует. Поэтому как существует он по
необходимости своей природы, так и действует по необходимости
своей природы, т.е. действует абсолютно свободно.
§
8. Итак, мы заключаем, что не во власти каждого человека всегда
пользоваться своим разумом и быть на самой вершине человеческой
свободы; и однако же каждый
293
293
стремится, поскольку это зависит от него, сохранить свое бытие, и
чего бы каждый — все равно мудрец ли он или невежда — ни
добивался и ни делал, он добивается и делает по высшему праву
природы (ибо каждый человек имеет столько права, сколько мощи).
Отсюда следует, что право, или строй природы, под которым все люди
рождаются и большею частью живут, не запрещает ничего, кроме
того, чего никто не хочет и никто не может: ни распрей, ни ненависти, ни гнева, ни хитростей, и ни одно влечение не идет вразрез с ним. И
не удивительно. Ведь природа подчинена не законам человеческого
разума, которые имеют в виду лишь сохранение и истинную пользу
людей, но бесконечному числу других, сообразующихся с вечным
порядком всей природы (человек есть ее частица), одной
необходимостью которого все индивидуумы определяются известным
образом к существованию и действованию. Поэтому если нам что-
либо в природе представляется смешным, нелепым или дурным, то
это происходит оттого, что мы знаем вещи лишь отчасти и остаемся
по большей части в неведении относительно порядка и связи всей
природы, и оттого, что нам хочется, чтобы все направлялось по
предписанию нашего разума; в то время как то, что разум объявляет
злом, есть зло не в отношении порядка и законов всеобщей природы, но лишь в отношении законов одной нашей природы.
§
9. Из этого, кроме того, следует, что каждый бывает чужеправным
(alterius juris) до тех пор, пока находится под властью другого, и
своеправным (sui juris) постольку, поскольку может отразить всякое
насилие, отомстить по своему желанию за нанесенный ему вред и
вообще поскольку он может жить по своему усмотрению.
§
10. Один человек имеет под властью другого в том случае, если
держит его связанным, или лишил его орудий и средств для
самозащиты или бегства, или настолько привязал к себе
благодеяниями, что тот предпочитает его верховенство своему
собственному и хочет жить лучше по его указке, чем по своей. Тот, кто держит другого во власти первым или вторым способом, имеет во
власти только его тело, но не дух. При третьем же и четвертом
способе он подчиняет своему праву как дух, так и тело другого, однако лишь при условии продолжения страха или надежды, при
устранении которых другой остается своеправным.
294
294
§
11. Способность суждения также постольку может быть
чужеправной, поскольку дух может быть введен в заблуждение
другим. Из этого следует, что дух постольку является вполне
своеправным, поскольку он может надлежащим образом пользоваться
разумом. Далее, так как человеческая мощь должна оцениваться не
столько по крепости тела, сколько по силе духа, то отсюда следует, что наиболее своеправны те, разум которых наиболее обширен и
которые наиболее им руководствуются. И потому я вообще называю
человека свободным лишь постольку, поскольку он руководствуется
разумом, ибо [в этом случае] он определяется к действованию
причинами, которые могут быть адекватно поняты из его природы, хотя ими он необходимо определяется к действованию. Ибо свобода
(как мы показали в § 7 наст. гл.) не уничтожает необходимости
действования, но предполагает.
§
12. Если кто-нибудь дал другому обещание, подтвержденное лишь
словами, сделать что-нибудь такое, от чего он по своему праву мог бы
и воздержаться или наоборот, то оно остается действительным до тех
пор, пока не изменяется воля того, кто его дал. Ибо тот, кто властен
нарушить обещание, тот на самом деле не переставал быть
своеправным; его обещание было пустыми словами. Поэтому если он
сам, являющийся по праву природы своим собственным судьей, сочтет — правильно или неправильно (ибо ошибаться свойственно
человеку), — что из данного обещания проистечет более вреда, чем
пользы, то он в силу своего убеждения решает, что нужно нарушить
обещание, и делает так в согласии с правом природы (согласно § 9, наст. гл.).
§
13. Если бы двое оказались в согласии и соединили свои силы, то
вместе они могут больше и, следовательно, вместе имеют больше
права в отношении природы, чем каждый в отдельности; и, чем более
людей соединится таким образом, тем более будут иметь они права.
§
14. Поскольку люди обуреваются гневом, завистью или каким-нибудь
другим ненавистническим аффектом, постольку они влекутся врозь и
друг другу враждебны; и потому они должны внушать тем больший
страх, насколько более они могут и насколько они хитрее и коварнее
по сравнению с остальными животными. Но так как люди по природе
в высокой степени подвержены этим аффектам (как мы сказали в § 5
пред. гл.), то люди,
295
295
следовательно, — от природы враги. Ибо тот есть для меня
величайший враг, кого я должен наиболее бояться и наиболее
остерегаться.
§
15. Но так как (согласно § 9 наст. гл.) в естественном состоянии
каждый остается своеправным до тех пор, пока он может защитить
себя от притеснения со стороны других, и так как тщетно стремился
бы уберечь себя один от всех, то отсюда следует, что, пока
естественное право людей определяется мощью каждого и
принадлежит каждому в отдельности, до тех пор оно ничтожно, но
существует скорее в воображении, нежели в действительности, ибо
осуществление его совершенно не обеспечено. И несомненно, что
каждый тем менее может и тем менее, следовательно, имеет права, чем большую имеет причину страха. К тому же люди едва ли могли
бы без взаимной помощи поддерживать жизнь и совершенствовать
свой дух. И потому мы заключаем, что естественное право, свойственное человеческому роду, едва ли может быть представлено
вне того условия, что люди, имея общее право, могли бы совместно
завладеть землями, которые они могут населять и обрабатывать, укрепиться, отразить всякое насилие и жить по общему решению всех.
Ибо, чем более людей сходится таким образом воедино, тем более
права они вместе имеют; и если схоластики по этой причине (т.е.
потому, что в естественном состоянии для людей почти невозможно
быть своеправным) называют человека животным общественным, то
я ничего не могу им возразить 3.
§
16. Несомненно, что там, где люди имеют общее право и все
руководимы как бы единым духом, каждый из них имеет тем менее
права, чем более превосходят его мощью все остальные вместе
(согласно § 13 наст. гл.), т.е. он не имеет на самом деле по природе
никакого другого права, кроме того, которое уступает ему общее
право. Он обязан исполнять все, что бы ни повелевалось ему с общего
согласия (согласно § 4 наст. гл.), или же он по праву будет принужден
к этому.
§
17. Это право, определяемое мощью народа (multitudo), обычно
называется верховной властью (imperium). Она сосредоточена
абсолютно в руках того, на кого с общего согласия положена забота о
делах правления, а именно установление, истолкование и отмена
права, укрепление городов, решение вопроса о войне и мире и т.д.
Если эта
296
296
обязанность лежит на собрании, составляющемся из всего народа, то
форма верховной власти называется демократией, если на собрании, в
которое входят только избранные, — аристократией, и, если, наконец, забота о делах правления и, следовательно, верховная власть
возложена на одно лицо, — монархией.
§
18. Из изложенного в этой главе для нас становится ясно, что в
естественном состоянии не существует преступления, или же тот, кто
совершает преступление, грешит не против другого, а против себя; ибо по естественному праву никто не обязан, если не хочет, ни
сообразоваться с другим, ни считать что-либо добром или злом, кроме
признаваемого добром или злом по собственному усмотрению; и
естественное право не запрещает решительно ничего, кроме того, чего
никто не может (см. §§ 5 и 8 наст. гл.). Преступление же есть
действие, которое не может быть совершено по праву. Если бы люди
по установлению природы были обязаны руководствоваться разумом, то все они необходимо руководствовались бы им. Ибо установления
природы суть установления бога (по §§ 2 и 3 наст. гл.), которые бог
установил с той же свободой, с какой он существует, и которые
поэтому вытекают из необходимости божественной природы (см. § 7
этой гл.) и, следовательно, не могут быть нарушены. Но люди
руководятся более всего чуждым разуму влечением и, однако, не
нарушают порядка природы, но необходимо ему следуют; и поэтому
невежда и немощный духом не более обязаны по естественному праву
разумно устроить жизнь, чем больной обязан быть здоровым.
§
19. Итак, преступление может быть представлено только в
государстве, где именно по общему праву всего государства решается, что есть добро и что зло, и где никто не действует ни в чем по праву
(по § 16 наст. гл.), если не действует с общего решения и согласия.
Преступление же (как мы сказали в пред. параграфе) есть то, что не
может быть совершено по праву или запрещено правом, а повиновение
есть неуклонная воля исполнять то, что по праву есть добро и должно
совершиться в силу общего решения.
§
20. Но обыкновенно мы называем преступлением и то, что
совершается вопреки повелению здравого разума, а повиновением —
неуклонную волю умерять влечения но предписанию разума
(рассудка), и я был бы всецело с этим согласен, если бы человеческая
свобода заключа-
297
297
лась в своеволии влечений, а рабство — во власти разума. Но так как
человеческая свобода тем больше, чем больше человек может
руководиться разумом и умерять влечения, то мы не можем (разве
только в очень отдаленном смысле) называть разумную жизнь
повиновением, а грехом то, что на самом деле есть немощность духа, а не своеволие его по отношению к самому себе и благодаря чему
человек может быть назван скорее рабом, чем свободным (см. §§ 7 и
11 наст. гл.).
§
21. Но так как, с другой стороны, разум учит блюсти благочестие и
хранить душевное спокойствие и доброжелательность (что возможно
лишь в государстве) и так как, кроме того, народ не может быть
руководим как бы единым духом (как это необходимо в государстве), если он не имеет права, установленного по предписанию разума, то, следовательно, люди, привыкшие жить в государстве, не столь уж
неправильно называют преступлением то, что совершается вопреки
велению разума. Поэтому я и сказал (см. § 18 наст. гл.), что если в
естественном состоянии человек совершает преступление, то против
самого себя (об этом см. гл. IV, §§ 4 и 5, где показано, в каком смысле
мы можем сказать, что тот, кто обладает верховной властью и
подлежит естественному праву, все же подчинен законам и может
совершить преступление).
§
22. Что касается религии, то несомненно также, что человек тем
более свободен и тем более верен самому себе, чем более он любит
бога и чтит его всей душой. Но поскольку мы имеем в виду не
порядок природы, нам неизвестный, но лишь веления разума, касающиеся религии, и в то же время принимаем в соображение, что
эти веления открыты нам богом, как бы говорящим в нас самих, или
же были открыты пророком, как законы, постольку мы, приспособляясь к общепринятому словоупотреблению, говорим, что
тот человек повинуется богу, который любит его всей душой, и, наоборот, тот совершает преступление, который руководится слепым
желанием. Но мы, между тем, не должны забывать, что мы находимся
во власти бога, как глина во власти горшечника, который из одной и
той же смеси делает одни сосуды для почетного употребления, другие
— для низкого; и потому человек может, правда, совершать что-либо
вопреки этим решениям бога, поскольку они были начертаны в нашем
духе или
298
298
в духе пророков, но не вопреки вечному решению бога, начертанному
в совокупной природе (Natura universa) и относящемуся к порядку
всей природы.
§
23. Итак, как преступление и повиновение в строгом смысле, так и
справедливость и несправедливость могут быть представлены только
в государстве. Ибо в природе нет ничего такого, о чем можно сказать, что оно по праву принадлежит одному, а не другому; но все
принадлежит всем тем именно, в чьей власти его себе присвоить. В
государстве же, где по общему праву решается, что принадлежит
одному и что другому, справедливым называется тот, кто имеет
неуклонную волю воздавать каждому должное ему; несправедливым
же, наоборот, тот, кто стремится присвоить себе принадлежащее
другому.
§
24. В нашей «Этике» мы уже выяснили, что похвала и порицание суть
аффекты радости и печали, сопровождаемые, как причиной, идеей
добродетели или человеческой немощности.
ГЛАВА III
О ПРАВЕ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ
§
1. Наличие какой бы то ни было верховной власти (imperium) создает
гражданское состояние, совокупное же тело верховной власти
называется государством (civitas), а общие дела верховной власти, направляемые тем, в чьих руках верховная власть, именуются делами
правления (res publica). Затем люди, поскольку они по гражданскому
праву пользуются всеми выгодами государства, называются
гражданами, а поскольку они обязаны подчиняться установлениям, или законам, государства — подданными. Наконец (как мы сказали в
§ 17 пред. гл.), существуют три вида гражданского состояния, а
именно: демократический, аристократический и монархический. Но, прежде чем начать говорить о каждом в отдельности, я раньше докажу
то, что относится к гражданскому состоянию вообще; из этого же
следует прежде всего рассмотреть верховное право государства, или
верховной власти.
§
2. Из § 15 пред. гл. явствует, что право верховной власти есть не что
иное, как естественное право, но определяемое не мощью каждого в
отдельности, а мощью народа, руководимого как бы единым духом, т.е. как от-
299
299
дельный человек в естественном состоянии, точно так же тело и дух
(mens) всей верховной власти имеют столько права, сколько мощи. А
потому каждый отдельный гражданин или подданный имеет тем
меньше права, чем само государство могущественнее его (см. § 16
пред. гл.), и, следовательно, каждый гражданин только тогда
действует по праву и по праву обладает чем-либо, когда может
защищать это с общего решения государства.
§
3. Если государство уступает кому-либо право, а следовательно, и
власть — ибо в противном случае (по § 12 пред. гл.) все сведется к
одним словам — жить по своему усмотрению, то тем самым оно
отказывается от своего права и переносит его на того, кому дало
такую власть. Если же оно дало такую власть двум или многим лицам, чтобы именно каждый жил по своему усмотрению, то тем самым оно
разделило верховную власть, и если, наконец, оно дало эту власть
каждому из граждан, то тем самым оно разрушило само себя и нет уже
более государства, но все возвращается в естественное состояние —
все это с полной очевидностью вытекает из предыдущего. И отсюда
следует, что нельзя никоим образом себе представить, чтобы каждому
гражданину по установлению государства было дозволено жить по
своему усмотрению, и, следовательно, то естественное право, что
каждый является своим судьей, в гражданском состоянии необходимо
прекращается. Я намеренно подчеркиваю: по установлению
государства, ибо естественное право каждого (в чем мы убедимся, если надлежащим образом рассмотрим вопрос) в гражданском
состоянии не прекращается. Ведь человек как в естественном
состоянии, так и в гражданском действует по законам своей природы
и сообразуется со своей пользой. Человек, говорю я, как в том, так и в
другом состоянии побуждается страхом или надеждою к тому, чтобы
что-нибудь сделать или от чего-нибудь воздержаться; но главное
различие между ними заключается в том, что в гражданском
состоянии все боятся одного и того же и для всех одна и та же
причина безопасности и общий уклад жизни, что, конечно, не сводит
на нет способности суждения каждого. Тот, кто решил повиноваться
всем приказам государства — потому ли, что боится его мощи, или
потому, что ценит свое спокойствие, — тот, конечно, сообразуется по
своему усмотрению со своей безопасностью и пользой.
300
300
§
4. Мы не можем, далее, также представить себе, чтобы каждому
гражданину было дозволено толковать решения или законы
государства. Ведь если бы это было дозволено каждому, то тем самым
он стал бы своим собственным судьей, ибо никакого труда не стоило
бы ему извинить или прикрасить свои поступки видимостью права, и, следовательно, он устроил бы свою жизнь по своему усмотрению, что
(согласно пред. параграфу) нелепо.
§
5. Итак мы видим, что каждый гражданин не своеправен, но подчинен
праву государства, все приказы которого он обязан исполнять, и что
он не имеет никакого права решать вопрос о справедливом, несправедливом, благочестивом или неблагочестивом. Но, наоборот, так как тело верховной власти должно быть руководимо как бы
единым духом и, следовательно, волю государства следует считать
волей всех, то решение государства относительно справедливого и
доброго, каково бы оно ни было, должно быть признано решением
каждого в отдельности. И потому гражданин обязан исполнять
приказы государства, хотя бы он и считал их несправедливыми.
§
6. Но могут возразить: не идет ли столь полное подчинение суждению
другого вразрез с велением разума и не противоречит ли, следовательно, гражданское состояние разуму? Отсюда следовало бы, что гражданское состояние противоразумно и могло бы быть
установлено лишь людьми, лишенными разума, но менее всего теми, которые руководятся разумом. Но так как разум не учит ничему
направленному против природы, то, следовательно, здравый разум не
может повелевать, чтобы каждый оставался своеправным, поскольку
люди подвержены аффектам (согласно § 15 пред. гл.), т.е. (согласно
§ 5 гл. I) разум отрицает возможность этого. К тому же разум вообще
учит искать мира, который может быть достигнут только в том случае, если не будет нарушаться общее право государства; и потому, чем
более человек руководится разумом, т.е. (согласно § 11 пред. гл.) чем
более он свободен, тем неуклоннее будет он блюсти право
государства и исполнять распоряжения верховной власти, подданным
которой он является. К этому нужно еще присоединить, что
гражданское состояние устанавливается по естественному ходу вещей
для устранения общего страха и во избежание общих бед и поэтому
оно стремится более всего к тому, чего тщетно (согласно § 15 пред, гл.) добивается
301
301
в естественном состоянии каждый руководящийся разумом. Ввиду
этого, если человеку, руководящемуся разумом, приходится иногда по
приказу государства делать то, что, как он считает, противоречит
разуму, то этот ущерб с избытком возмещается тем добром, которое
он черпает в гражданском состоянии. Ведь выбирать из двух зол
меньшее также является законом разума; и поэтому мы можем
заключить, что никто не действует вопреки предписанию своего
разума, поскольку он действует так, как надлежит по праву
государства; в чем охотнее согласится с нами каждый после того, как
мы выясним, до каких пределов простирается мощь, а следовательно, и право государства.
§
7. Здесь, во-первых, нужно принять во внимание, что как в
естественном состоянии (согласно § 11 пред. гл.) наиболее мощным и
наиболее своеправным будет тот человек, который руководится
разумом, так и то государство будет наиболее мощным и наиболее
своеправным, которое зиждется на разуме и направляется им. Ибо
право государства определяется мощью народа (multitudo), руководимого как бы единым духом. Но такое единение душ может
быть мыслимо только в том случае, если государство будет более
всего стремиться к тому, что здравый разум признает полезным для
всех людей.
§
8. Во-вторых, следует также принять во внимание, что подданные
постольку несвоеправны, но подчинены праву государства, поскольку
они боятся его угроз или любят гражданское состояние (согласно § 10
пред. гл.). Отсюда следует, что все то, к выполнению чего никто не
может быть побужден ни наградами, ни угрозами, не относится к
праву государства. Например, никто не может поступиться
способностью суждения. Какими в самом деле наградами или
угрозами человек может быть побужден к тому, чтобы поверить, что
целое не больше части, что бога не существует или что тело, которое
он видит конечным, есть существо бесконечное, и вообще чтобы
поверить чему-либо идущему вразрез с тем, что он чувствует и
мыслит? Точно так же какими наградами или угрозами человек может
быть побужден к тому, чтобы любить того, кого ненавидит, или
ненавидеть того, кого любит? Сюда же следует отнести все то, что
настолько противно человеческой природе, что почитается худшим, чем всякое зло, например требование, чтобы человек
302
302
свидетельствовал против самого себя, чтобы он пытал себя, чтобы
убивал своих родителей, чтобы не пытался избежать смерти, и тому
подобное, к чему человек не может быть побужден никакими
наградами или угрозами. Если бы мы, однако, все же сказали, что
государство имеет право или власть приказать нечто подобное, то
только в том же смысле, как если бы кто-нибудь сказал, что человек
по праву может безумствовать или сходить с ума. Ибо чем иным, как
не безумством, было бы право, которому никто не мог бы быть
подчинен? Оговариваюсь, что я имею здесь в виду лишь не
относящееся к праву государства и противное в большинстве случаев
человеческой природе. Ибо оттого, что глупец или безумец никакими
наградами или угрозами не может быть побужден к исполнению
приказов, или оттого, что тот или иной вследствие приверженности к
какой-нибудь секте считает право верховной власти хуже всякого зла, право государства не делается еще тщетным, ибо большинство
граждан его признает. И так как те, которые ничего не боятся и ни на
что не надеются, суть постольку своеправны (согласно § 10 пред. гл.), то они являются, следовательно (по § 14 пред. гл.), врагами верховной
власти, обуздать которых дозволено по праву.
§
9. В-третьих, наконец, нельзя упускать из виду, что к праву
государства менее относится то, на что негодует большинство. Ибо
несомненно, что по природе людей толкает на заговор или общий
страх, или желание отомстить за общую обиду; и так как право
государства определяется общей мощью народа, то несомненно, что
мощь и право государства уменьшаются постольку, поскольку оно
само дает поводы значительному числу лиц к заговору. Конечно, и
государству приходится кое-чего опасаться, и как каждый гражданин
или человек в естественном состоянии, так и государство тем менее
своеправно, чем большую имеет причину страха. Все это касалось
права верховной власти в отношении к подданным. Но, прежде чем
перейти к ее праву в отношении к другим, мне представляется
необходимым разрешить обычно возникающий вопрос о религии.
§
10. Ведь нам могут возразить: не уничтожает ли гражданское
состояние и подчинение граждан (необходимость которого в
гражданском состоянии мы показали) религия, которая обязывает нас
чтить бога? Но если мы
303
303
вникнем в суть дела, то не найдем ничего, что могло бы возбудить
сомнение. Ведь дух, поскольку он пользуется разумом, является
своеправным, а не подчиненным праву верховной власти (согласно
§ 11 пред. гл.). И поэтому истинное познание бога и любовь к нему не
могут быть подчинены ничьей власти, точно так же как и
благоволение к ближнему (согласно § 8 этой гл.); и если, кроме того, мы примем во внимание, что высшее проявление благоволения есть
то, которое направлено к сохранению мира и установлению согласия, то мы не будем сомневаться в том, что помогающий каждому в тех
пределах, в каких дозволяет это право государства, т.е. согласие и
спокойствие, вполне исполняет свой долг. Что касается внешних
культов, то несомненно, что они совершенно не могут ни
способствовать, ни повредить истинному познанию бога и той любви, которая необходимо из него следует; и потому они не столь уж ценны, чтобы из-за них стоило нарушать мир и общественное спокойствие.
Несомненно к тому же, что по праву природы, т.е. (согласно § 3 пред.
гл.) по божественному решению, я не являюсь ревнителем религии, ибо мне не дана та власть изгонять нечистых духов и творить чудеса, которая была некогда у учеников Христа. А эта власть в такой степени
необходима для распространения религии в тех местах, где она
воспрещена, что без нее не только теряются по-пустому и время, и
труд, но, кроме того, создаются всевозможные тягостные осложнения; все века были свидетелями губительнейших примеров такого рода.
Итак, каждый, где бы он ни жил, может чтить бога истинной религией
и исполнять долг частного человека. Забота же о распространении
религии должна быть предоставлена богу или верховной власти, на
которой только и лежит попечение о делах правления. Но я
возвращаюсь к своему изложению.
§
11. После того как мы выяснили вопрос о праве верховной власти в
отношении к гражданам и об обязанностях подданных, нам предстоит
теперь рассмотреть это ее право по отношению ко всему остальному; оно легко познается из сказанного выше. Ведь так как (согласно § 2
наст. гл.) право верховной власти есть не что иное, как естественное
право, то отсюда следует, что два государства находятся в тех же
отношениях, как два человека в естественном состоянии, с тою лишь
разницей, что государство может обеспечить себя от притеснения
304
304
со стороны других, чего не может сделать человек в естественном
состоянии: ежедневно он забывается сном, часто страдает от болезней
и душевного уныния, впадает, наконец, в дряхлость и, кроме того, подвержен многим другим превратностям, от которых может уберечь
себя государство.
§ 12. Итак, государство постольку своеправно, поскольку оно
может руководствоваться своей пользой и обеспечить себя от
притеснения со стороны других (согласно §§ 9 и 15 пред. гл.), и
(согласно §§ 10 и 15 пред. гл.) постольку чужеправно, поскольку оно
боится мощи другого государства или поскольку это последнее
противодействует ему в достижении его целей, или поскольку, наконец, оно нуждается для своего сохранения и процветания в
помощи другого. Ведь мы отнюдь не можем сомневаться в том, что
если два государства хотят оказывать друг другу помощь, то вдвоем
они могут больше и, следовательно, вместе имеют больше права, чем
каждое из них в отдельности (см. § 13 пред. гл.).
.
§ 13. Это станет яснее, если мы примем во внимание, что два
государства — по природе враги. Ведь люди (согласно § 14 пред. гл.) в естественном состоянии являются врагами. Поэтому те, которые
сохраняют естественное право вне государства, остаются врагами.
Если, таким образом, одно государство захочет идти на другое войной
и применить крайние средства, чтобы подчинить его своему праву, то
оно по праву может сделать такую попытку, ибо для ведения войны
ему достаточно иметь соответствующую волю. Но относительно мира
оно может решить что-либо, лишь если присоединится воля другого
государства. Из этого следует, что право войны принадлежит каждому
государству в отдельности, право же мира есть право не одного, но по
меньшей мере двух государств, которые поэтому называются
союзными.
§
14. Этот союз остается действительным до тех пор, пока имеется
налицо причина заключения союза, а именно боязнь вреда или
надежда на выгоду. Если же для какого-нибудь из государств то или
другое отпадет, то оно остается своеправным (согласно § 10 пред. гл.) и связь, которой были соединены государства, сама собой разрешится.
Поэтому каждое государство имеет полное право нарушить союз, когда пожелает; и нельзя относительно [такого государства] сказать, что оно поступает коварно
305
305
и вероломно, если не держит обещания по устранении причины страха
или надежды, так как это условие было равным для каждого из
договорившихся (то именно, что первое [государство], освободившееся от страха, становится своеправным и может
пользоваться своим правом по своему усмотрению) и, кроме того, так
как каждый договаривается относительно будущего лишь при
предположении наличных обстоятельств. С их изменением же
меняется все положение дела, и по этой причине каждое из союзных
государств сохраняет за собой право сообразоваться со своей пользой
и каждое поэтому стремится по мере своей возможности избавиться
от страха, быть, следовательно, своеправным и воспрепятствовать
тому, чтобы другое превзошло его своей мощью. Если, следовательно, какое-нибудь государство жалуется на обман, то, конечно, оно должно
пенять не на вероломство союзного государства, но лишь на свою
глупость, побудившую его доверить свое благоденствие другому, которое своеправно и для которого свое собственное благоденствие
есть наивысший закон.
§
15. Государствам, заключившим мир, принадлежит право разрешать
вопросы, могущие возникнуть относительно условий или законов
мира, которые они взаимно обязались хранить, ибо право мира есть
право не каждого в отдельности, но договаривающихся вместе
(согласно § 13 наст. гл.). Если же они не могут прийти к соглашению
относительно них, то тем самым они возвращаются к состоянию
войны.
§
16. Чем больше государств заключает вместе мир, тем менее страха
внушает каждое в отдельности всем другим, или тем менее власти у
каждого начать войну, но тем более оно обязано блюсти условия
мира, т.е. (согласно § 13 наст. гл.) тем менее оно своеправно, но тем
более обязано приспособляться к общей воле союзных государств.
§
17. Однако такой взгляд отнюдь не уничтожает верности обещанию, хранить которое учит здравый разум и религия; ибо ни разум, ни
Писание не учат хранить каждое обещание. Если я, например, обещал
кому-нибудь сберечь деньги, которые он тайком дал мне на
сохранение, то я не буду обязан сдержать свое обещание, когда я
узнаю или у меня создастся убеждение, что данные мне на сохранение
деньги — ворованные; но я поступлю
306
306
более правильно, если постараюсь вернуть их по принадлежности.
Точно так же если одна верховная власть обещала другой сделать что-
нибудь такое, относительно чего дальнейшее течение дел или разум
выяснили его пагубность для общего благоденствия подданных, то
она, конечно, обязана нарушить обещание. Таким образом, ввиду того
что Писание предписывает верность обещанию лишь как общее
правило и отдельные случаи предоставляет суждению каждого, то оно
не учит, следовательно, ничему такому, что шло бы вразрез с только
что изложенным.
§
18. Но для того чтобы в дальнейшем не приходилось столько раз
обрывать нить изложения и отвечать на подобные возражения, я хочу
напомнить, что я доказал все это из необходимости человеческой
природы, как бы на нее ни смотреть, а именно из стремления всех
людей к самосохранению, каковое стремление присуще всем людям
— как мудрецу, так и невежде. И потому, будем ли мы рассматривать
людей как руководящихся разумом или — аффектами, дело от этого
не изменится, ибо, как мы сказали, доказательство было всеобщим.
ГЛАВА IV
О ВАЖНЕЙШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЛАХ
§
1. В предыдущей главе мы говорили о праве верховной власти, определяемом ее мощью. Мы видели, что существо права заключается
главным образом в том, что оно является как бы духом государства, которым все должны руководствоваться. Поэтому только верховная
власть имеет право решать, что хорошо, что дурно, что справедливо, что несправедливо, т.е. что следует делать каждому в отдельности или
всем вместе или от чего воздерживаться. Таким образом, мы видели, что только ей одной принадлежит право издавать законы, толковать
их в каждом отдельном случае, если относительно их возникнет
какой-нибудь вопрос, и решать, противоречит ли данный случай
праву или согласен с ним (см. §§ 3, 4, 5 пред. гл.), далее, решать
вопрос о войне или об установлении и предложении условий мира, или о принятии предложенных (см. §§ 12 и 13 пред. гл.).
307
307
§
2. Так как все это, равно как и изыскание средств, необходимых для
приведения этого в исполнение, суть дола, касающиеся совокупного
тела верховной власти, т.е. государства (Respublica), то отсюда
следует, что ход государственных, дел зависит исключительно от
руководства того, кто обладает верховной властью. Следует, далее, что лишь верховной власти принадлежит право судить о поступках
каждого, налагать кару на преступников и разрешать вопросы о праве, возникающие между гражданами, или же назначать знатоков
действующего права, чтобы они занимались этим вместо нее; затем
определять и проводить меры, необходимые для [ведения] войны и
[сохранения] мира, как-то: укреплять города, набирать солдат, распределять должности в войске, приказывать то, что надлежит, по
ее мнению, сделать, снаряжать с целью мира послов и выслушивать
таковых и, наконец, взимать нужные для всего этого издержки.
§
3. Итак, право заниматься государственными делами или избирать с
этой целью должностных лиц принадлежит только верховной власти.
Отсюда следует, что тот подданный посягает на верховную власть, который по одному своему усмотрению, без ведома верховного
совета, принимается за какое-нибудь государственное дело, хотя бы
то, что он задумал сделать, было бы, по его убеждению, наилучшим
для государства.
§
4. Но обыкновенно спрашивают: подчинена ли верховная власть
законам и может ли она, следовательно, совершить преступление? Так
как выражениями «закон» и «преступление» пользуются обыкновенно
в применении не только к праву государства, но и ко всем правилам
(regulae) естественных вещей и прежде всего разума, то мы не можем
просто сказать, что государство не подчинено никаким законам или не
может совершить преступления. Ведь если бы государство не было
подчинено никаким законам или правилам, без которых государство
не было бы государством, то на государство следовало бы смотреть не
как на естественную вещь, а как на химеру. Следовательно, государство совершает преступление, когда делает или терпит то, что
может быть причиной его гибели; в этом случае мы говорим
«совершает преступление» в том же смысле, в каком философы или
медики говорят, что природа грешит, и в этом смысле мы можем
сказать, что государство грешит, когда делает что-нибудь вразрез
308
308
с велением разума. Ведь государство тогда является наиболее
своеправным, когда поступает по велению разума (согласно § 7 пред.
гл.); поскольку же оно поступает вопреки разуму, постольку оно
изменяет себе и совершает преступление. Это станет яснее, если мы
примем в соображение, что, когда мы говорим, что всякий может
располагать вещью, подчиненной его праву, как хочет, то эта власть
должна определяться не только мощью действующего, но и
особенностями претерпевающего действие. Если, например, я говорю, что я по праву могу располагать этим столом, как хочу, то я ведь, конечно, не думаю, что имею право добиться того, чтобы этот стол ел
траву. Точно так же, хотя мы и говорим, что люди не своеправны, но
подчинены праву государства, но мы не вкладываем в это того
смысла, что люди теряют человеческую природу и облекаются новой, и поэтому государство имеет право добиваться того, чтобы люди
летали или, что равно невозможно, чтобы люди с уважением взирали
на то, что возбуждает смех или отвращение; но лишь тот смысл, что
имеются известные обстоятельства, при предположении которых у
подданных создается уважение и страх к государству и при
устранении которых исчезает и уважение, и страх, а с ними вместе и
государство. Поэтому государство, чтобы быть своеправным, обязано
сохранять причины уважения и страха; в противном случае, оно
перестает быть государством. Ибо для тех или для того, в чьих руках
верховная власть, столь же невозможно бегать пьяным или нагим по
улицам с развратницами, ломать шута, открыто нарушать и презирать
им же самим изданные законы и в то же время сохранять подобающее
ему величие, как невозможно одновременно быть и не быть. Далее, убийство и грабеж подданных, похищение девушек и тому подобные
поступки превращают страх в негодование и, следовательно, гражданское состояние — в состояние враждебности.
§
5. Итак, мы видим, в каком смысле мы можем сказать, что
государство связано законами и может совершить преступление. Но
если мы под законом будем понимать право гражданское, которое
может быть защищено средствами самого гражданского права, а под
преступлением то, что воспрещается самим гражданским правом, т.е.
если мы возьмем эти слова в их подлинном смысле, то мы" никоим
образом не сможем сказать, что государство подчинено
309
309
законам или может совершить преступление. Ибо правила и причины
страха и уважения, которые государство обязано хранить ради самого
себя, относятся не к праву гражданскому, а к праву естественному, ибо они могут (согласно пред. §) быть защищаемы не по праву
гражданскому, но по праву войны; и государство связано ими на том
же основании, на каком человек в естественном состоянии, чтобы
быть своеправным или не быть себе врагом, обязан остерегаться
смерти от собственной руки; каковая осторожность его, конечно, не
повиновение, а свобода человеческой природы. Гражданское же право
зависит лишь от решения государства, а оно но обязано ни считаться с
кем-либо, кроме себя, т.е. своей свободы, ни признавать что-либо за
добро или зло, кроме того, что оно само определяет для себя как
таковое. И потому оно не только имеет право самозащиты, издания и
толкования законов, но и их отмены и прощения каждого виновного в
силу полноты своей власти.
§
6. Несомненно, что договоры или законы, которыми народ перенес
свое право на один совет (Consilium) или человека, должны быть
нарушены, когда нарушение их требуется общим благом. Но решить
вопрос о том, требует ли общее благо их нарушения или же нет, не
может по праву никакое частное лицо, но лишь тот, в чьих руках
верховная власть (согласно § 3 этой гл.); следовательно, по
гражданскому праву только тот, в чьих руках верховная власть, остается толкователем этих законов. К этому еще нужно прибавить, что ни одно частное лицо не может по праву защищать их, и потому
на самом деле они не обязательны для того, кто обладает верховной
властью. Но если их природа такова, что они не могут быть нарушены
без ослабления сил государства, т.е. без того чтобы общий страх
большинства граждан не превратился в негодование, то их
нарушением разрушается государство и прекращается договор, защищаемый поэтому не по гражданскому праву, а по праву войны. И
потому тот, кто обладает верховной властью, обязан хранить условия
этого договора только но той же причине, по какой человек в
естественном состоянии, чтобы не быть себе врагом, обязан
остерегаться смерти от собственной руки, как мы сказали в
предыдущем §.
310
310
ГЛАВА V
О НАИЛУЧШЕМ СОСТОЯНИИ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ
§
1. В § 11 гл. II мы показали, что человек наиболее своеправен тогда, когда наиболее руководится разумом, и, следовательно (см. § 7, гл. III), то государство будет наиболее своеправным, которое зиждется
на разуме и руководится им. Но так как наилучшим образом жизни
для самосохранения, поскольку таковое возможно, является тот, который устанавливается по предписанию разума, то отсюда следует, что наилучшим будет все то, что делает человек или государство, поскольку они являются наиболее своенравными. Ибо мы не
утверждаем, что все совершающееся, как сказано, по праву, совершается наилучшим образом. Не одно и то же: обрабатывать поле
по праву и обрабатывать его наилучшим образом; не одно и то же, говорю я, — защищать себя по праву, сохранять, выносить решение и
т.д. и защищать себя наилучшим образом, сохранять, выносить
наилучшее решение, и, следовательно, не одно и то же по праву
властвовать и заботиться о делах правления и властвовать наилучшим
образом и наилучшим образом управлять государством. Итак, покончив с правом государства вообще, мы перейдем теперь к
наилучшему состоянию каждой формы верховной власти.
§
2. Каково же наилучшее состояние каждой формы верховной власти,
— легко познается из цели гражданского состояния: она есть не что
иное, как мир и безопасность жизни. И потому та верховная власть
является наилучшей, при которой люди проводят жизнь в согласии и
когда ее права блюдутся нерушимо. Ибо несомненно, что восстания, войны, презрение или нарушение законов следует приписывать не
столько злобности подданных, сколько дурному состоянию верховной
власти. Ибо люди не рождаются гражданами, но становятся. Кроме
того, естественные аффекты людей повсюду одни и те же. Поэтому, если в одном государстве злоба царит шире и совершается больше
преступлений, чем в другом, то объясняется это, несомненно, тем, что
это государство недостаточно позаботилось об общем согласии и
недостаточно благоразумно установило право, а следовательно, и не
обладает абсолютным правом государства. Ведь гражданское
состояние, которое не устранило причин восстаний, в ко-
311
311
тором всегда следует опасаться войны и в котором, наконец, часто
нарушаются законы, немногим отличается от естественного
состояния, где каждый живет по собственному усмотрению, подвергая
большой опасности свою жизнь.
§
3. Подобно тому как пороки, чрезмерное своеволие и упорство
граждан следует приписывать государству, так же и, наоборот, их
добродетель и постоянство в соблюдении законов должны быть
приписаны, главным образом, добродетели и абсолютному праву
государства, как явствует из § 15, гл. II. Доблесть Ганнибала потому
пользуется столь заслуженной славой, что в его войске никогда не
было восстания.
§
4. О государстве, подданные которого не берутся за оружие, удерживаемые лишь страхом, можно скорее сказать, что в нем нет
войны, нежели что оно пользуется миром. Ведь мир есть не
отсутствие войны, но добродетель, проистекающая из твердости духа; ибо повиновение (согласно § 19, гл. II) есть неуклонная воля
исполнять то, что должно совершиться в силу общего решения
государства. Кроме того, государство, где мир зависит от косности
граждан, которых ведут, как скот, лишь для того, чтобы они
научились рабствовать, правильнее было бы назвать безлюдной
пустыней, чем государством 4.
§
5. Поэтому, когда мы говорим, что та верховная власть является
наилучшей, при которой люди проводят жизнь согласно, то разумеем
жизнь человеческую, которая определяется не только
кровообращением и другими функциями, свойственными всем
животным, но преимущественно разумом, истинной добродетелью и
жизнью духа.
§
б. Но следует отметить, что под верховной властью, устанавливаемой, как я сказал, с вышеназванной целью, я понимаю ту, которая устанавливается свободным народом, а не ту, которая
приобретается над народом по праву войны. Свободный народ более
руководится надеждой, чем страхом, покоренный — более страхом, чем надеждой, ибо первый стремится улучшить жизнь, второй —
лишь избежать смерти; первый, говорю я, стремится жить для себя, второй вынужден отдаться победителю, почему мы и говорим, что
один пребывает в рабстве, другой — в свободе. Итак, цель верховной
власти, приобретаемой кем-нибудь по праву войны, есть господство и
скорее обладание рабами, чем подданными. И хотя между вер-
312
312
ховной властью, которая создается свободным народом, и той, которая приобретается по праву войны, если мы обратим внимание на
право той и другой, вообще нельзя отметить существенного различия, однако их цель, как мы уже показали, а кроме того, и средства, которыми каждая должна пользоваться для самосохранения, совершенно различны.
§
7. Что касается средств, какими должен пользоваться князь (Princeps), руководящийся исключительно страстью к господству, чтобы
упрочить и сохранить власть, то на них подробно останавливается
проницательнейший Макиавелли 5; с какой, однако, целью он это
сделал, представляется не вполне ясным. Но если эта цель была
благой, как и следует ожидать от мудрого мужа, она заключалась, по-
видимому, в том, чтобы показать, сколь неблагоразумно поступают
многие, стремясь устранить тирана, в то время как не могут быть
устранены причины, вследствие которых князь превращается в
тирана, но, наоборот, тем более усиливаются, чем большая причина
страха представляется князю: это бывает тогда, когда народ
расправился с князем, желая дать пример другим, и кичится
цареубийством как славным делом. Может быть, он хотел также
показать, насколько свободный народ должен остерегаться абсолютно
вверять свое благополучие одному лицу; если последний не
тщеславен и не считает себя способным угодить всем, то он должен
каждодневно бояться козней и потому ему поневоле приходится более
оберегать самого себя, народу же, наоборот, скорее строить козни, чем
заботиться о нем. И что меня еще более укрепляет в моем мнении об
этом благоразумнейшем муже, так это то, что он, как известно, стоял
за свободу и дал неоценимые советы также для ее укрепления.
ГЛАВА VI
О МОНАРХИИ
§
1. Люди, как мы сказали, более руководствуются аффектом, нежели
разумом. Отсюда следует, что по естественному ходу вещей люди
приходят к согласию и желают быть руководимыми как бы единым
духом вследствие руководства не разума, но какого-нибудь общего
аффекта,
313
313
будет ли это (как мы сказали в § 9, гл. III) общая надежда или страх, или желание отомстить за общую обиду. Но так как страх одиночества
присущ всем людям, ибо в одиночестве никто не обладает силами, достаточными для самозащиты и для снискания всего необходимого к
жизни, то люди, следовательно, но природе стремятся к гражданскому
состоянию и не может случиться, чтобы люди когда-нибудь
совершенно из него вышли.
§
2. Поэтому раздоры и восстания, часто возникающие в государстве, никогда не приводят к тому, чтобы граждане распускали государство
(как это часто бывает в других видах общения); но лишь к изменению
формы государства, если именно распри не могут прекратиться при
сохранении существующего государственного порядка. Поэтому, говоря о средствах, которые требуются для сохранения верховной
власти, я имею в виду те, которые необходимы для сохранения данной
формы верховной власти без какого-либо заметного изменения.
§
3. Если бы с человеческой природой дело обстояло таким образом, что люди более всего желали наиболее полезного, то для водворения
согласия и мира не нужно было бы никакого искусства. Но с
человеческой природой дело обстоит далеко не так. Поэтому
необходимо установить верховную власть таким образом, чтобы все, как правители, так и управляемые, действовали в соответствии с
общим благом, хотят ли они этого или нет, т.е. чтобы все понуждались
(добровольно ли или под давлением силы или необходимости) жить
по предписанию разума, что будет достигнуто, если дела верховной
власти будут упорядочены таким образом, что ничто, имеющее
отношение к общему благу, не представлялось бы безусловно чьей-
либо совестливости. Ведь никто не является столь бдительным, чтобы
никогда не забыться сном, и не было еще человека такой силы и
чистоты душевной, чтобы не поддаться когда-либо (и в особенности
тогда, когда более всего нужна душевная твердость) искушению и не
быть побежденным. И нелепо, конечно, требовать от другого то, чего
никто не может добиться от себя, а именно: заботиться о других
более, чем о себе, не быть ни алчным, ни завистливым и т.д., в
особенности если дело идет о том, кто ежедневно подвержен
величайшему искусу всевозможных аффектов.
314
314
§
4. Но опыт, на первый взгляд, учит обратному, тому именно, что
перенесение всей власти на одно лицо — в интересах мира и согласия.
Ибо ни одно государство не просуществовало столько времени без
всякого заметного изменения, как турецкое, и, наоборот, ни одно не
было столь недолговечным, как народное или демократическое, и ни в
одном не возникало столько восстаний. Но если рабство, варварство и
запустение называть миром, то для людей нет ничего печальнее мира.
Конечно, между родителями и детьми раздоры чаще и ожесточеннее, чем между господами и рабами, и, однако, не в интересах
домохозяйства превратить родительское право в господское и
уравнять таким образом детей с рабами. Поэтому перенесение всей
власти на одного в интересах рабства, но не мира. Ибо мир, как мы
уже сказали, заключается не в отсутствии войны, но в единении душ
или согласии 6.
§
5. Конечно, глубоко заблуждаются те, которые думают, что один
человек может обладать высшим правом государства. Ведь право (как
мы показали в гл. II) определяется мощью. А мощи одного человека
далеко не под силу выдержать такое бремя. Этим объясняется, что
лицо, избранное народом в цари, ищет себе военачальников или
советников, или друзей, которым вверяет как свое, так и общее
благополучие, так что форма верховной власти, которая почитается
абсолютно монархической, в действительности, на деле, оказывается
аристократической, но не явной, а скрытой, а потому наихудшей. К
этому нужно прибавить, что когда царь или в детском возрасте, или
болен, или отягощен годами, то он является царем только по имени
(precario rex sit); в действительности же верховная власть находится в
руках тех, кто ведает важнейшими делами государства, или лиц, наиболее близких к царю. Я не говорю уже о том, что царь, преданный
распутству, правит всем по прихоти той или иной наложницы или
любимца. «Я слыхал, — говорит Орсин, — что в Азии некогда царили
женщины, но чтобы кастрат царствовал, — это новость!» (Курций 7, кн. X, гл. 1).
§
6. Несомненно, кроме того, что государству всегда грозит большая
опасность со стороны граждан, чем со стороны врагов; хорошие
граждане редки. Из этого следует, что тот, на кого перенесено все
право государства, всегда будет бояться граждан более, чем врагов, и, следовательно, будет стремиться обезопасить себя, к подданным же
315
315
будет относиться не с заботливостью, а злокозненно, в особенности к
тем, которые выделяются мудростью или влиятельнее других
вследствие своего богатства.
§
7. К этому нужно еще прибавить, что цари и своих сыновей более
боятся, чем любят, и тем более, чем более последние преуспевают в
искусствах войны и мира и любимы за свои добродетели подданными.
Этим объясняется, что они стараются воспитать своих сыновой таким
образом, чтобы устранить причину страха. В этом деле весьма
рьяными приспешниками царя являются придворные, которые
приложат все старания к тому, чтобы будущий царь был неразвит и
им можно было бы ловко управлять.
§
8. Из всего этого следует, что царь тем менее своеправен и положение
подданных тем печальнее, чем более абсолютно переносится на царя
право государства. И поэтому необходимо для надлежащего
упрочения монархической формы верховной власти заложить
надежные основы, на которых она и будет воздвигнута; из них
должны проистекать безопасность для монарха и мир для народа, так
чтобы монарх был наиболее своеправен тогда, когда он наиболее
печется о благоденствии народа. Эти основы монархической формы
верховной власти я сначала вкратце изложу, а затем разовью по
порядку.
§
9. Должны быть основаны и укреплены один или несколько городов, все граждане которых — все равно, живут ли они в стенах города или
вне их, занимаясь земледелием, — обладают равными гражданскими
правами, с тем, однако, условием, чтобы каждый город имел
известное число граждан для своей и общей защиты; тот же город, который не может выполнить этого, должен быть в подчинении на
иных условиях.
§
10. Ополчение должно быть образовано из одних граждан, без
исключения для кого бы то ни было, и ни из кого другого; а поэтому
все обязаны иметь оружие и никто не может быть принят в число
граждан, если не научится раньше владеть оружием и не обещает
упражняться в обращении с ним в определенное время года. Далее, по
разделении ополчения каждого рода на когорты и легионы, никто не
должен избираться в вожди когорты, кроме изучавших военное
искусство. Затем вожди когорт и легионов должны быть избираемы на
всю жизнь, а командующий всем ополчением какого-нибудь рода —
только на время войны; он должен быть у власти не более года, его
316
316
власть не может быть продлена, и он не может быть избран вновь.
Они должны избираться из советников царя (о которых нам предстоит
говорить в § 15 и сл.) или из тех, которые уже отбыли эту должность.
§ 11. Жители всех городов и земледельцы, т.е. все граждане, должны
быть поделены на роды (familiae), отличающиеся друг от друга
именем и каким-нибудь знаком. Все рожденные в каком-нибудь из
этих родов принимаются в число граждан (их имена должны
заноситься в списки их рода, как только они достигнут возраста, когда
они могут носить оружие и понимать свои обязанности), за
исключением лишь опороченных каким-нибудь преступлением или
немых, безумных и батраков, добывающих средства к жизни каким-
нибудь недостойным свободного человека занятием.
§
12. Поля и вся земля, а если возможно, и дома должны быть
оставлены за государством, именно за тем, кому принадлежит право
государства; он сдает их за ежегодный оброк гражданам, как
горожанам, так и селянам, и за этим исключением никто в мирное
время никаких повинностей не несет. Из этого оброка одна часть
должна идти на укрепление государства, другая же — на домашние
нужды царя. Ибо во время мира необходимо укреплять города, как для
войны, кроме того, иметь наготове суда и прочие орудия войны.
§
13. По избрании царя из какого-нибудь рода никто не должен
считаться знатным, кроме [лиц] происходящих от царя, которые
поэтому отличаются от своего и прочих родов знаками царского
достоинства.
§
14. Из этой знати родственникам царя, находящимся в третьей или
четвертой степени родства с тем, кто царствует, должен быть
воспрещен брак; если же они произведут детей, то дети считаются
незаконными, лишенными доступа ко всем почетным должностям и
не признаются наследниками своих родителей: все имущество
последних отходит к царю.
§
15. Далее, советников царя, которые наиболее к нему приближены и
уступают в достоинстве только ему, должно быть большое число, и
избирать их должно исключительно из граждан, из каждого рода
именно трое, четверо или пятеро (если родов не более шестисот), которые вместе пользуются правом одного члена совета, но не на всю
жизнь, а на три, на четыре или пять лет, так чтобы каждый
317
317
год избиралась вновь третья, четвертая или пятая часть. При этих
выборах особенно важно, чтобы из каждого рода выбирался, по
крайней мере, один знаток права.
§
16. Эти выборы должны производиться самим царем. В определенное
время года, когда именно выбираются новые советники, каждый род
обязан представить царю список тех из своих граждан, которые
достигли пятидесятилетнего возраста и в надлежащем порядке
признаны кандидатами на эту должность; из них он выбирает кого
пожелает. В том же году, когда знаток права из какого-нибудь рода
должен занять место другого, царю представляется лишь список
знатоков права. Те советники, которые пробыли в этой должности
положенное время, не могут ни оставаться в ней дольше, ни
заноситься в избирательные списки в течение пяти или более лет.
Причина же, почему необходимо каждый год выбирать из каждого
рода по одному, заключается в том, что совет не должен состоять
попеременно то из неопытных новичков, то из ветеранов, искушенных
в делах; а это необходимо бы произошло, если бы весь состав сразу
уходил, а его место занимал новый. Но если каждый год будет
избираться по одному из рода, то только пятая, четвертая или третья
часть совета будет состоять из новичков. Если, далее, царь, задержанный другими делами или по какой-нибудь иной причине, не
может заняться этими выборами, то сами советники выбирают других
на время, царь же или избирает затем других, или утверждает
избранных советом.
§
17. Первейшей обязанностью этого совета является защита основных
законов государства, подача советов относительно текущих дел, чтобы царь знал, какого решения требует общее благо. И потому царю
не должно быть дозволено выносить окончательное решение о каком-
нибудь деле до предварительного ознакомления с мнением этого
совета. Но если, как это по большей части бывает, совет не придет к
единодушию, но в нем будут различные мнения даже после трех- или
четырехкратного обсуждения одного дела, то не следует дальше
медлить с этим делом, но расходящиеся мнения представляются царю
(как мы покажем в § 25 наст. гл.).
§ 18. Обязанностью этого совета является также обнародование
распоряжений или решений царя, забота о приведении в исполнение
решений, принятых в делах
318
318
правления, наконец, попечение, в качестве заместителя царя, о всем
управлении государством.
§
19. Гражданам открыт доступ к царю только через этот совет, в
который должны поступать все заявления или прошения для
представления царю. Точно так же послы иностранных государств
могут получать разрешение на аудиенцию у царя только через этот
совет. Далее, письма, адресованные царю из других мест, передаются
ему этим советом; и вообще царь должен считаться как бы душой
государства, вышеописанный же совет — внешними чувствами или
телом государства, через которое душа воспринимает состояние
государства и посредством которого она выполняет то, что считает
наилучшим.
§
20. Забота о воспитании сыновей царя также лежит на обязанности
совета, равно как и опека, если царь умер, оставив наследника
младенцем или малолетним. Но для того чтобы совет в течение этого
времени не оставался без царя, из знати государства должен быть
избран старейший, замещающий царя, пока законный наследник не
достигнет того возраста, когда сможет принять на себя бремя власти.
§ 21. Кандидатами в этот совет являются те, которые знакомы с
управлением, основами и состоянием или особыми условиями
государства, подданными которого они являются. Тот же, кто желает
занять место знатока права, должен, сверх управления и особых
условий государства, подданным которого он состоит, знать то же и
относительно других государств, с которыми приходится
сталкиваться. Но лишь достигшие пятидесятилетнего возраста и не
уличенные ни в каком преступлении вносятся в избирательные
списки.
§
22. В этом совете дела государства могут решаться только в
присутствии всех членов; если же кто-нибудь не может
присутствовать по болезни или по какой-либо другой причине, то он
обязан послать вместо себя кого-нибудь другого из того же рода, кто
уже отбыл эту должность или внесен в избирательные списки. Если он
не сделает этого и совет вследствие его отсутствия вынужден будет
отложить обсуждение какого-нибудь дела до другого дня, то на него
налагается какой-нибудь значительный денежный штраф. Но все это
лишь в том случае, когда поднят вопрос о деле, касающемся всего
государства, а именно: о войне и мире, об отмене или издании какого-
нибудь закона, о торговле и т.д. Но если поднят вопрос о деле, 319
319
касающемся лишь того или другого города, о прошениях и т.д., то
достаточно присутствия большинства.
§
23. Для того чтобы между родами ни в чем не было неравенства и
чтобы установился порядок относительно места, предложений и
речей, следует соблюдать очередь так, чтобы в каждом заседании
первое место занимал другой род и тот, который в данном заседании
был первым, в следующем будет последним. Из принадлежащих же к
одному роду первым будет тот, кто ранее избран.
§
24. Этот совет созывается не менее четырех раз в год, чтобы
потребовать отчет у должностных лиц в управлении государством, ознакомиться с положением дел и убедиться в том, не следует ли
вынести какое-нибудь новое постановление. Ведь представляется, по-
видимому, невозможным, чтобы столь большое число граждан было
непрестанно занято государственными делами; но так как
государственные дела не терпят отлагательства и в промежутке между
созывами, то из этого совета должны быть избраны человек пятьдесят
или более, которые при роспуске совета становились бы на его место.
Ежедневно должны они собираться в помещении, ближайшем к
царскому, и ежедневно нести попечение о казне, о городах, об
укреплениях, о воспитании царского сына и вообще обо всем, что
лежит, согласно вышеизложенному, на обязанности великого совета, за тем исключением, что они не могут обсуждать новых дел, о
которых еще не состоялось никакого определения.
§
25. Когда совет собирается, то еще до внесения каких-либо
предложений пять, шесть или более знатоков права из родов, занимающих в этом заседании первые места, являются к царю, чтобы
передать прошения или письма, если таковые имеются, изложить
положение вещей и, наконец, узнать от него самого, какого рода
предложения прикажет он внести в свой совет. Получив указания, они
возвращаются в совет, и занимающий первое место излагает
подлежащее обсуждению дело. И относительно дела, которое кому-
либо представляется сколько-нибудь важным, следует не тотчас же
производить голосование, но отсрочить его до того момента, которого
допускает само дело. После того как совет будет распущен до этого
срока, советники из каждого рода тем временем смогут обсудить этот
вопрос отдельно, и если дело покажется чрезвычайно важным, то
обратиться за помощью
320
320
к другим, уже исполнявшим эти обязанности или являющимся
кандидатами на эти должности. Если в течение установленного
времени они не договорятся между собой, то этот род не подает
голоса, ибо каждый род имеет только один голос. В противном же
случае знаток права из этого рода, получив инструкции, вносит в
самый совет решение, признанное ими наилучшим; также поступают
и остальные. И если большинству по выслушании доводов, на
которых основано каждое мнение, покажется необходимым вновь
рассмотреть дело, то совет вновь распускается до срока, к которому
каждый род сообщит свое окончательное мнение, и тогда только при
полном составе совета производится голосование; причем
предложения, собравшие менее ста голосов, не должны получать
дальнейшего хода. Остальные же всеми присутствовавшими в совете
знатоками права представляются царю, чтобы он избрал из них по
рассмотрении оснований каждого какое ему заблагорассудится.
Отсюда они возвращаются в совет, где все ждут царя к
установленному им самим времени, чтобы всем узнать, какое из
представленных решений он считает нужным выбрать, и чтобы он сам
решил, что следует делать.
§
26. Для отправления правосудия должен быть образован другой
совет, на обязанности которого лежит разрешение споров и наказание
провинившихся; но все приговоры этого совета должны еще получить
утверждение тех, кто занимает место великого совета. Они
удостоверяются в том, были ли приговоры вынесены с соблюдением
всех правил судопроизводства и не было ли лицеприятия. Если
сторона, проигравшая дело, сможет доказать, что кто-нибудь из судей
или был подкуплен противной стороной, или имел другую общую
причину относиться по-дружески к противной стороне или враждебно
к ней самой, или, наконец, что не был соблюден общий порядок
судопроизводства, то все дело отменяется. Это, конечно, трудно будет
понять тем, которые, когда дело идет о преступлении, имеют
обыкновение уличать подсудимого более пытками, чем аргументами.
Но ведь я изображаю тут только порядок судопроизводства, согласующийся с наилучшим управлением государства.
§
27. Число этих судей должно быть велико и притом нечетное, а
именно: 61 или в крайнем случае 51; из каждого рода выбирается не
более одного и не на всю жизнь, но так, чтобы ежегодно одна часть
совета выходила и
321
321
выбиралось столько же новых судей, происходящих из других родов и
достигших пятидесятилетнего возраста.
§
28. В этой коллегии приговоры должны произноситься лишь в
присутствии всех судей. Если же кто-нибудь из них по болезни или по
какой-нибудь другой причине не сможет долго присутствовать, то на
это время для его замещения избирается кто-нибудь другой. При
подаче голосов каждый выражает свое решение не открыто, но с
помощью шаров.
§
29. Доходы членов этого совета и заместителей предшествующих
составляются прежде всего из имущества осужденных ими на
смертную казнь, а также из денежных штрафов в случае присуждения
к ним. Затем при каждом приговоре по гражданскому делу они
должны получать от проигравшего известную часть общей суммы, часть, которая делится между обоими советами.
§
30. Этим советам в каждом городе подчинены другие, члены которых
выбираются также не на всю жизнь, но ежегодно должна выбираться
некоторая часть из родов, живущих в данном городе. Но нет нужды
входить здесь в большие подробности.
§ 31. Во время мира ополчение не должно получать никакого
жалованья, в военное же время поденное жалованье получают только
те, кто поддерживает жизнь поденным трудом. Военачальники же и
остальные офицеры когорт не должны ждать от войны никаких других
доходов, кроме военной добычи.
§
32. Если какой-нибудь чужестранец возьмет в жены дочь гражданина, то его дети считаются гражданами и заносятся в список материнского
рода. Детям же родителей иностранцев, рожденным и воспитанным в
самом государстве, должно быть дозволено приобрести за
установленную плату у старейшины какого-нибудь рода право
гражданства; они вносятся тогда в списки этого рода. И если бы даже
старейшины из корысти приняли какого-нибудь иностранца в число
своих сограждан за плату, ниже установленной, то это не грозит
государству никаким ущербом, но, наоборот, следует позаботиться о
мерах наиболее легкого увеличения числа граждан и привлечения
большего числа людей. Не занесенные же в списки граждан должны, по крайней мере во время войны, возместить (как того требует
справедливость) свою праздность каким-нибудь трудом или
денежным взносом.
322
322
§
33. Послы, которые отправляются во время мира в другие государства
в целях заключения или сохранения мира, избираются исключительно
из знати, и необходимые для них средства отпускаются из
государственной казны, а не из домашней казны царя.
§
34. Придворные и служители царя, которым он платит жалованье из
своей домашней казны, не должны иметь доступа к государственным
службам и должностям. Я подчеркиваю, которым царь платит
жалованье из своей домашней казны, чтобы отличить от них
телохранителей. Ибо телохранители могут быть лишь граждане того
же города, которые несут с соблюдением очереди караульную службу
у покоев царя.
§
35. Война должна вестись только в целях мира, дабы по ее окончании
не было нужды в применении оружия. Поэтому после захвата городов
по праву войны и покорения врага или должны быть установлены
такие условия мира, чтобы захваченные города не нуждались в охране
каким-нибудь гарнизоном, или врагу по принятии мирного договора
предоставляется возможность их выкупа за известную сумму, или же
(если при первом образе действия останется постоянная опасность
нападения с тыла вследствие неудобств местоположения) они должны
быть сравнены с землей, а жители уведены в другое место.
§
36. Царю не должно быть дозволено жениться на иностранке, но
лишь на ком-нибудь из родственниц или гражданок, с тем, однако, условием (если он женится именно на какой-нибудь гражданке), чтобы ближайшие кровные родственники жены не имели доступа к
государственным должностям.
§
37. Верховная власть (imperium) должна быть неделимой. Поэтому
если у царя родится несколько детей, то законным преемником будет
старший из них. Отнюдь не следует допускать, чтобы государство
делилось менаду детьми или, хотя и неразделенное, переходило ко
всем вместе или только к некоторым детям; еще того менее чтобы
часть его давалась дочерям в качестве приданого. Ибо никоим
образом нельзя допустить, чтобы дочери участвовали в
престолонаследии.
§
38. Если царь умирает, не имея мужского потомства, то ближайший к
нему по крови должен считаться наследником престола, если только
тот случайно не женат на иностранке, с которой не желает разойтись.
323
323
§
39. Что касается граждан, то ясно из §5 гл. III, что каждый из них
должен повиноваться всем приказам или распоряжениям царя, обнародованным великим советом (см. об этом условии §§ 18 и 19
этой гл.), хотя бы они казались ему самыми нелепыми или же он по
праву будет принужден к этому. Таковы основы монархической
формы верховной власти, на которых она должна быть воздвигнута, чтобы быть устойчивой, как мы докажем в следующей главе.
§
40. Что касается религии, то никакие храмы не должны воздвигаться
за счет городов, и не следует устанавливать законов относительно
мнений, если только они не являются бунтовщическими и не
ниспровергают основ государства. Поэтому лица, которым
дозволяется публичное отправление своего культа, могут, по
желанию, строить храмы за свой счет. Царь же для отправлении того
культа, к которому он принадлежит, имеет во дворце свой
собственный храм.
ГЛАВА VII
О МОНАРХИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
§
1. Разъяснив в предыдущей главе основы монархической формы
верховной власти, я намерен теперь по порядку доказать их. Для этой
цели следует прежде всего отметить, что установление законов
настолько незыблемых, что даже сам царь не может уничтожить их, отнюдь не противоречит практике. Персы обыкновенно чтили своих
царей наравне с богами, и, однако, сами цари не имели власти
отменять раз установленные законы (как это явствует из гл. 5 книги
Даниила 8), и нигде, насколько мне известно, монарх не избирается
абсолютным, без ясно выраженных условий. И это не противоречит
ни разуму, ни тому безусловному повиновению, которым мы обязаны
по отношению к царю. Ибо основы верховной власти следует считать
как бы вечными решениями царя (Regis aeterna decreta), так что его
министры всецело повинуются ему, когда отказываются исполнять
его приказы, в случае если они противоречат основам верховной
власти. Это мы можем пояснить на примере с Одиссеем. Ведь
спутники Одиссея следовали его приказу, отказавшись освободить
324
324
его, когда он был привязан к корабельной мачте и зачарован пением
сирен, несмотря на всяческие [с его стороны] угрозы; и впоследствии
он благодарил своих спутников за исполнение ими его первой воли.
Это считают проявлением его благоразумия. На этот пример с
Одиссеем указывают обыкновенно цари судьям, наставляя их
отправлять правосудие нелицеприятно, не считаться даже с самим
царем, если он в отдельном случае прикажет что-нибудь такое, что, как они знают, противоречит установленному праву. Ведь цари не
боги, а люди, которые часто заслушиваются пением сирен.
Следовательно, если бы все зависело от непостоянной воли одного
человека, то не было бы ничего прочного. Поэтому монархическая
форма верховной власти, чтобы быть устойчивой, должна быть
установлена так, чтобы все, правда, совершалось по одному лишь
решению царя, т.е. чтобы все право было изъявленной волей царя, но
не так, чтобы всякая воля царя была правом (о чем см. §§ 3, 5 и 6 пред.
гл.).
§
2. Далее необходимо отметить, что при заложении основ [власти]
следует более всего иметь в виду человеческие аффекты и
недостаточно указать на то, что само по себе обязательно, но прежде
всего нужно выяснить, что могло бы быть сделано для того, чтобы
люди имели непреложное и незыблемое право, — все равно, будут ли
они руководиться аффектом или разумом. Ибо если право государства
или публичная свобода держатся только хрупкой опорой законов, то
не только не будет для граждан никакой обеспеченности ее
осуществления (как мы показали в § 3 пред. гл.), но, наоборот, они
обречены на гибель. Ведь несомненно, что печальнее всего обстоит
дело именно с наилучшим государством, в которое начала проникать
порча, если только оно не рушится от первого же сотрясения и толчка
и не впадает в рабство (что, как кажется, невозможно); поэтому для
подданных имеет больше смысла абсолютно перенести свое право на
одного человека, нежели соглашаться на недостоверные, тщетные или
ничтожные условия свободы и тем уготовлять своим потомкам путь к
жесточайшему рабству. Но если я покажу, что изложенные мною в
предыдущей главе основы монархической формы верховной власти
надежны и их ниспровержение неизбежно вызовет негодование
большей части вооруженного народа и что из них проистекает
безопасность для царя и народа, и выведу все это из общей
325
325
природы, то никто не сможет усомниться в том, что они суть
наилучшие и истинные (как явствует из § 9 гл. III и §§ 3 и 8 пред. гл.).
Теперь я по возможности кратко покажу, что они действительно
таковы.
§
3. Никто не станет спорить против того, что на том, в чьих руках
верховная власть, лежит обязанность всегда знать о состоянии и
положении государства, быть на страже общего блага и проводить в
жизнь полезное для большинства подданных. Но так как один человек
не может обозреть всего (не всегда он находится в состоянии
душевного равновесия, [не всегда бывает] способен к размышлению, и
часто болезнь, или старость, или какие-либо другие причины не
позволяют ему заниматься делами правления), то, следовательно, необходимо, чтобы монарх имел советников, которые знали бы
положение вещей, помогали бы царю советом и подчас его заменяли; этим будет достигнуто то, что верховная власть, или государство, всегда будет держаться одного направления.
§
4. Но с человеческой природой дело обстоит так, что каждый с
величайшим жаром ищет своей личной пользы и за справедливейшие
считает те законы, которые необходимы для сохранения и
приумножения его достояния, чужой же интерес защищает лишь
постольку, поскольку рассчитывает тем самым упрочить свой
собственный. Отсюда поэтому с необходимостью следует, что
советниками нужно выбирать тех, чье личное достояние и польза
зависят от общего благоденствия и мира. И, таким образом, ясно, что
если из каждого рода или класса граждан будет выбираться по
нескольку человек, то решение, получившее в этом совете наибольшее
число голосов, будет полезно большинству граждан. Правда, в этот
совет, состоящий из значительного числа граждан, необходимо
попадет и много людей слишком низкого развития; однако
несомненно, что каждый долгое время с интересом занимавшийся
какими-нибудь делами, приобретет в них достаточный навык и набьет
руку. Поэтому если будут выбираться занимавшиеся до пятидесяти
лет лишь своими делами и не нажившие при этом дурной славы, то
они будут в состоянии давать советы, касающиеся их области, в
особенности если в более важных делах будет дано время на
размышление. К этому нужно еще прибавить, что малочисленность
совета отнюдь не дает уверенности в том, что в него не попадут
подобные лица. Наоборот, большая часть
326
326
его будет состоять из подобных людей, ибо каждый здесь будет
стремиться подобрать себе безголовых товарищей, ловящих каждое
его слово, что не имеет места в больших советах.
§
5. Кроме того, несомненно, что каждый предпочитает управлять, нежели быть управляемым. «Ибо никто не уступает добровольно
власти другому», — как говорит Саллюстий 9 в своей первой речи к
Цезарю. И потому ясно, что целый народ никогда не перенес бы
своего права ни на немногих, ни на одного, если бы ему удалось
прийти к согласию и если бы споры, столь часто возникающие в
больших собраниях, не грозили перейти в усобицы. И потому народ
только то свободно переносит на царя, что он абсолютно не может
удержать в своей власти, а именно: разрешение споров и приведение в
исполнение решений. Что касается того, также частного случая, когда
царь избирается для войны (так как царями войны ведутся с большей
удачей), то для того чтобы удачнее вести войну, конечно, бессмысленно желать рабствовать во время мира, если только можно
представить себе мир в государстве, верховная власть которого
перенесена с исключительной целью войны на одно лицо, которое
поэтому может доказать свою доблесть и свое значение для всех более
всего на войне; в то время как, наоборот, демократическая форма
власти имеет то преимущество, что ее добродетель (virtus) гораздо
больше проявляется во время мира, чем во время войны, Но по какой
бы причине ни был избран царь, он один, как мы уже сказали, не
может знать всего полезного для государства, но для этого ему
необходимо (как мы показали в пред. §) иметь много советников из
граждан, И так как мы никоим образом не можем себе представить, чтобы что-либо касающееся обсуждаемого дела могло ускользнуть от
внимания столь большого числа людей, то отсюда следует, что, кроме
мнений этого совета, представляемых царю, нет никаких других, соответствующих благу народа. Но так как благо народа есть
верховный закон или наивысшее право царя, то, следовательно, право
царя заключается в выборе из представленных ему мнений совета, а
не в принятии чего-либо наперекор убеждению совета (см. § 25 пред.
гл.). Но если бы царю представлялись все мнения, внесенные в совет, то могло бы случиться, что царь оказывал бы всегда предпочтение
небольшим городам, имеющим сравнительно небольшое число
голосов.
327
327
Ибо хотя по наказу совета и было постановлено, чтобы мнения
представлялись без указания на их авторов, однако трудно будет
добиться здесь полной тайны. Поэтому необходимо установить, чтобы
мнения, не имеющие хотя бы ста голосов, не получали дальнейшего
движения; и это право большие города будут всеми силами защищать. §
6. Если бы я не стремился к краткости, я бы указал здесь на другие
чрезвычайно полезные стороны этого совета. Остановлюсь, однако, только на одной, представляющейся наиболее важной. Нет именно
большего поощрения к добродетели, чем общая всем надежда занять
столь почетную должность. Ибо все мы более всего добиваемся славы, как подробно показано нами в нашей «Этике».
§
7. Не может быть сомнения в том, что большая часть этого совета
никогда не будет склонна вести войну, но всегда будет иметь великое
тяготение и любовь к миру. Ведь, не говоря уже о том, что война
всегда будет сопряжена для них самих с опасностью лишиться своего
имущества и свободы, нужно еще иметь в виду, что для войны
потребуются новые расходы, которые они должны будут покрыть, и
что придется взяться за оружие их же детям и родственникам, занятым домашними делами; с войны же последние могут вернуться
домой лишь с никому не нужными ранами. Ибо (как мы сказали в § 31
пред. гл.) ополчение не должно получать никакого жалованья и
(согласно § 10 той же гл.) составляется исключительно из граждан и
ни из кого другого.
§
8. Благоприятствует, далее, миру и согласию еще одно весьма
существенное обстоятельство, то именно, что никто из граждан не
обладает недвижимостью (см. § 12 пред. гл.). Вследствие этого война
всем угрожает приблизительно равной опасностью. Ведь всем
придется для получения дохода или заняться торговлей, или давать
друг другу деньги взаймы, если, как некогда в Афинах, будет издан
закон, воспрещающий отдавать деньги в рост кому-либо, кроме
местных жителей; и поэтому придется заниматься делами, которые
или находятся во взаимной зависимости, или предполагают одни и те
же условия для своего преуспеяния. И потому большинство совета
будет почти всегда единодушно относительно общих дел и средств
сохранения мира. Ибо (как мы сказали в § 4 наст. гл.) каждый
защищает чужой интерес лишь постольку, поскольку думает тем
самым упрочить свое благосостояние.
328
328
§
9. Никому не может прийти в голову подкупать подобный совет, — в
этом не может быть сомнения. Ведь если кто-нибудь и привлечет на
свою сторону одного или двух из столь большого числа людей, то, конечно, этим он ничего не добьется. Ибо, как мы сказали, мнение, собравшее менее ста голосов, дальнейшего движения не получает.
§
10. Что, кроме того, число членов этого раз установленного совета не
может быть уменьшено, — в этом мы легко убедимся, если примем в
соображение общие аффекты людей. Ведь все более всего стремятся к
славе, и каждый физически здоровый человек надеется прожить до
глубокой старости. Поэтому, если мы подсчитаем число тех, которые
действительно достигли пятидесятилетнего или шестидесятилетнего
возраста, а кроме того, примем в расчет большое число ежегодно
избираемых членов этого совета, то увидим, что едва ли найдется
способный носить оружие человек, который бы не тешил себя
надеждой достичь этого звания; и поэтому все будут по мере сил
защищать право этого совета. Нужно заметить, что всякой порче легко
положить конец, если только она не проникает постепенно. Но так как
легче себе представить и меньше зависти возбудит уменьшение числа
избираемых из всех родов, нежели уменьшение такового из немногих
или даже полное исключение того или другого рода, то, следовательно (согласно § 15 пред. гл.), число советников может быть
уменьшено не иначе, как сокращением его на третью, четвертую или
пятую часть, а такое изменение слишком значительно и, следовательно, совершенно идет вразрез с общим течением дел. Не
следует также опасаться промедления с выборами или нерадивого к
ним отношения, так как за этим следит сам совет (см. § 16 пред. гл.). §
11. Итак, царь — руководимый ли страхом перед народом или целью
привлечь к себе большинство вооруженного народа, или руководимый
душевным благородством в желании, именно: послужить общей
пользе, — всегда будет утверждать то мнение, которое собрало
большинство голосов, т.е. (согласно § 5 наст. гл.) наиболее полезное
для большей части государства; несогласные же мнения, представленные ему, постарается примирить, чтобы всех привлечь к
себе. На это дело царь положит все свои силы, чтобы всем воочию
показать, насколько он лично необходим для них как во время мира, так и во
329
329
время войны. И поэтому он тогда будет наиболее своенравным и в
наибольшем обладании верховной властью, когда больше всего будет
заботиться об общем благе народа.
§ 12. Ведь сам царь не может сдержать всех страхом. Но, как мы
сказали, его мощь держится численностью солдат, в особенности их
доблестью и верностью, которая всегда лишь постольку бывает
надежной у людей, поскольку они имеют нужду друг в друге — все
равно, пристойна ли последняя или позорна. Вследствие этого цари
обыкновенно чаще возбуждают солдат, чем сдерживают их в должных
границах, и более скрывают их пороки, чем добродетели; чтобы
притеснять лучших граждан, они по большей части выискивают
бездельников, развращенных роскошью, приближают их к себе, осыпают их деньгами и милостями, жмут им руки, целуют и ради
господства идут на всякие унижения. Поэтому, чтобы граждане были
к царю ближе всех и оставались бы своеправными — поскольку
дозволяет это гражданское состояние или справедливость, —
необходимо, чтобы ополчение состояло исключительно из граждан и
чтобы они привлекались к совещаниям; наоборот, позволившие
привести наемников, промышляющих войной и черпающих всю свою
силу в раздорах и усобицах, тем самым обрекают себя на рабство и
закладывают основы вечной войны.
§
13. Советники царя должны избираться не на всю жизнь, а на три, четыре или самое большее пять лет; это явствует как из § 10 наст. гл., так и из того, что мы сказали в § 9 наст. гл. Ведь если бы они
выбирались на всю жизнь, то, не говоря уже о том, что громадному
большинству граждан не была бы доступна надежда на занятие этой
почетной должности, неравенство между гражданами было бы весьма
значительно, неравенство, являющееся источником зависти, постоянного ропота и, наконец, усобиц, которые, конечно, весьма на
руку властолюбивым царям; кроме того, такие советники начнут
своевольничать (ибо не будет уже страха перед преемниками), чему
цари отнюдь не воспрепятствуют. Ведь, чем более советники будут
ненавистны гражданам, тем более будут они льнуть к царю и тем
более будут склонны льстить ему. И даже пятилетний срок
представляется чересчур большим, ибо за такой период времени, по-
видимому, имеется некоторая возможность совратить слишком
большую часть совета (хотя бы он и был многочислен) дарами и
милостями. Поэтому
330
330
дело будет намного вернее, если ежегодно двое из каждого рода будут
выходить из состава, а их место займут другие (если из каждого рода
должно быть по пяти советников), за исключением того года, когда
выходит знаток права, принадлежащий к какому-нибудь роду, и на его
место избирается новый.
§
14. Ни один царь, далее, не может мечтать о большей безопасности, чем та, которой пользуется правящий в такого рода государстве. Ведь, не говоря уже о том, что не долог век того, к кому относятся
недоброжелательно его наемники, несомненно, что наибольшая
опасность угрожает царю со стороны лиц, к нему наиболее близких.
Поэтому, чем малочисленнее и, следовательно, могущественное совет, тем более царь должен опасаться, что они перенесут верховную власть
на другое лицо. Ничто не испугало так Давида, как переход его
советника Ахитофеля на сторону Авессалома 10. Сюда следует еще
прибавить, что если вся власть абсолютно перенесена на одно лицо, то
тем легче перенести ее на другое. Два простых солдата вздумали
перенести власть над Римом на другое лицо и перенесли 11. Я обхожу
молчанием хитрости и интриги советников, которыми они вынуждены
оберегать себя, чтобы не пасть жертвою зависти, как слишком хорошо
известные. Всякий, кто знаком с историей, не может не знать, что
прямодушие приводило большей частью к гибели советников; поэтому и им, чтобы сохранить себя, нужно быть не прямодушными, а
вероломными. Но если число советников слишком велико для того, чтобы они могли сойтись на каком-нибудь преступном плане, если все
между собой равны и занимают должность не более четырех лет, то
они никогда не будут страшны для царя, если только он не вздумает
лишить их свободы, чем в равной степени оскорбит всех граждан. Ибо
(как прекрасно замечает Ант. Перес 12) для князя обладание
абсолютной властью слишком опасно, для подданных — слишком
ненавистно и идет вразрез как с божественными, так и с
человеческими установлениями, что доказывается бесчисленными
примерами.
§
15. В предыдущей главе мы изложили еще и другие основы, которые
в высокой степени обеспечивают царю его власть, а гражданам — мир
и свободу, что мы и покажем в своем месте; ибо прежде всего я хотел
доказать все касающееся верховного совета, как наиболее важное, 331
331
Теперь же перейдем к остальным, держась намеченного мною
порядка.
§
16. Что граждане тем могущественнее и, следовательно, более
своенравны, чем большими и лучше укрепленными городами они
обладают, — это несомненно. Ведь, чем безопаснее их
местожительство, тем лучше они могут защищать свою свободу или
менее бояться внешних и внутренних врагов. Несомненно, далее, что
люди по природе тем более заботятся о своей безопасности, чем они
богаче. Те же города, которые для своего сохранения нуждаются в
мощи другого, не имеют с ним равного права; но, поскольку
чужеправны, постольку нуждаются в чужой мощи. Ведь право (как мы
показали в гл. 2) определяется исключительно мощью.
§
17. Для той же самой цели, т.е. для того, чтобы граждане оставались
своенравными и сохраняли свободу, ополчение должно состоять
только из граждан, без исключения для кого бы то ни было. Ведь
вооруженный человек более своеправен, чем невооруженный (смотри
§ 12 наст. гл.); и граждане абсолютно переносят свое право на то лицо
(всецело вверяя себя его совестливости), которому они передали
оружие и доверили укрепления городов. Сюда присоединяется еще и
человеческая скупость, которая в очень значительной степени
определяет поведение большинства. Ведь солдат нельзя нанять без
больших расходов, а граждане почти не терпят налогов, необходимых
для содержания праздного войска. А что никто из начальствующих
над всем ополчением или над большей его частью не должен без
крайней нужды выбираться более чем на год, — это знает всякий
занимавшийся священной или светской историей. Разум же ничему не
учит с большей убедительностью. Ведь сила государства всецело
вверяется тому, кто имеет в своем распоряжении достаточно времени, чтобы достичь воинской славы, затмить своим именем самого царя
или привязать к себе войско снисходительностью, щедростью и
другими принятыми у военачальников приемами, которыми они
пролагают путь к чужому рабству и своему господству. Наконец, для
большей безопасности всего государства я прибавил, что
командующие ополчением выбираются из советников царя или
отбывших эту должность, т.е. из людей, достигших того возраста, когда люди по большей части предпочитают новому и опасному
старое и верное.
332
332
§
18. Я сказал, что граждане должны различаться по родам и что из
каждого рода следует выбирать равное число советников, чтобы
большие города имели больше советников, в соответствии с числом
граждан, и могли подавать большее число голосов, как оно и
справедливо. Ведь мощь верховной власти, а следовательно, и право
должны оцениваться по числу граждан; я не думаю, чтобы для
сохранения этого равенства между гражданами могло быть придумано
другое, более действительное средство; все граждане по природе
таковы, что каждый желает числиться в своем роде и отличаться от
других своим происхождением.
§
19. В естественном состоянии, далее, земля и все связанное с землей
таким образом, что не может быть ни спрятано, ни унесено куда бы то
ни было, меньше, чем что-либо другое, может быть предметом
притязания и подчинения своему праву отдельных лиц. Поэтому
земля и все связанное с ней вышеупомянутым образом должно быть
преимущественно подчинено общему праву государства, именно
[праву] всех тех, кто соединенными силами может удержать это за
собой, или того, кто может сделать так благодаря власти, сообщенной
ему всеми; и, следовательно, земля и все связанное с ней должно
иметь в глазах граждан только то значение, что на ней можно
обосноваться и защищать общее право и свободу. Что касается
остальных выгод, которые государство должно извлекать из земли, то
о них мы говорили в § 8 наст. гл.
§
20. Для того чтобы граждане по возможности оставались равными —
что для государства является настоятельной необходимостью, — к
знати причисляются лишь те, кто происходит от царя. Но если бы
всем потомкам царя было дозволено жениться или иметь детей, то с
течением времени их число возросло бы чрезвычайно и они были бы
не только в тягость всем остальным, но и явились бы источником
громадной опасности. Ведь люди, живущие в праздности, по большей
части увлекаются преступными планами. Этим объясняется тот факт, что цари затевают войны главным образом из-за знати, так как война
приносит с собой царям, теснимым знатью, больше безопасности и
спокойствия, чем мир. Но я не останавливаюсь более на этом, как на
достаточно известном, равно как и на всем сказанном мною с § 15 до
§ 27 пред. гл.; ибо самое существенное доказано в этой главе, остальное же очевидно само по себе.
333
333
§
21. Что число судей должно быть достаточно велико для того, чтобы
частное лицо не могло совратить большой части их дарами, что
голосование должно быть тайным, а не явным, что судьи заслуживают
вознаграждения за свой труд, — это также всем известно. Но повсюду
они получают годовое содержание; поэтому они не очень-то
торопятся с разрешением дел и часто тяжбам не предвидится конца.
Далее, там, где конфискованное имущество поступает в пользу царей, часто бывает, что «при разбирательстве смотрят не на право и истину, но на величину состояния; доносы становятся всеобщим явлением, и
начинается преследование наиболее богатых; такое тяжелое и
нетерпимое положение вещей, оправдываемое необходимостью
военного времени, остается и во время мира» 13. Корыстолюбие же
судей, остающихся в должности два или три года, умеряется страхом
перед преемниками, не говоря уже о том, что судьи не могут иметь
никакой недвижимости, но вынуждены свои деньги для получения
дохода отдавать взаймы согражданам. Поэтому им придется скорее
заботиться о гражданах, нежели строить им козни, в особенности если
самих судей будет, как мы сказали, достаточно большое число.
§
22. Ополчение же, как мы сказали, не должно получать никакого
жалованья, ибо величайшая награда ополчению — свобода. Ведь в
естественном состоянии каждый по мере сил стремится защитить себя
ради одной только свободы и не ждет другой награды воинской
доблести, кроме самостоятельности; в гражданском же состоянии все
граждане вместе должны быть рассматриваемы, как человек в
естественном состоянии; поэтому они, сражаясь все за это состояние, отстаивают самих себя и заняты своим собственным делом.
Советники же, судьи, преторы и т.д. трудятся более для других, чем
для себя; поэтому справедливо назначить им вознаграждение за труд.
К этому нужно прибавить, что нет на войне более достойного и более
сильного стимула к победе, чем образ свободы. Но, наоборот, если для
военной службы будет предназначена только одна какая-нибудь часть
граждан (по этой причине им придется определить жалованье), то
царь не преминет приблизить их к себе предпочтительно перед
другими (как мы показали в § 12 пред. гл.); таким образом, наиболее
близки к нему будут люди, знакомые только с военным делом, люди, которых толкнет к изли-
334
334
шествам избыток досуга в мирное время и которые, растратив свое
личное достояние, только и будут помышлять, что о грабежах, гражданских усобицах и войнах. Поэтому мы можем утверждать, что
подобное монархическое государство на самом деле есть состояние
войны и что в нем только войско наслаждается свободой, все же
остальные рабствуют.
§
23. Сказанное нами в § 32 пред. главы о приеме иностранцев в число
граждан говорит, по моему мнению, само за себя. Кроме того, никто, я
думаю, не станет сомневаться в том, что ближайшие кровные
родственники царя должны находиться от него в отдалении и
заниматься делами не войны, а мира, что принесет им славу, а
государству — спокойствие. Но даже и это казалось недостаточным
турецким тиранам; у них поэтому укоренился обычай убивать всех
братьев. И не удивительно: ведь, чем более абсолютно перенесено
право государства на одно лицо, тем легче оно (как мы показали на
примере в § 14 наст. главы) может быть перенесено с этого лица на
другое. Но несомненно, что изображаемая здесь монархическая форма
верховной власти, при которой нет ни одного наемного солдата, достаточно обеспечивает указанным нами образом благоденствие
царя.
§
24. Никто не может колебаться также относительно сказанного нами
в §§ 34 и 35 пред. главы. Но легко доказать также, что царь не должен
брать в жены иностранку. Ведь помимо того, что два государства, если даже они и соединены между собой союзом, находятся все-таки в
состоянии вражды (согласно § 14 гл. III), прежде всего следует
остерегаться, чтобы война не возникла из-за домашних дел царя; ведь
раздоры и несогласия возникают главным образом из союза, происшедшего от брака, и спорные вопросы между двумя
государствами по большей части решаются по праву войны. Отсюда
следует, что для государства гибельно вступление в тесный союз с
другим. О роковом примере такого рода сообщает Писание, а именно: по смерти Соломона, сочетавшегося браком с дочерью египетского
царя, сын его Ровоам вел несчастливейшую войну с египетским царем
Сузаком, которым был окончательно покорен. Кроме того, брак
Людовика XIV, короля французского, с дочерью Филиппа IV повлек
за собой новую войну. И, кроме этих, в истории имеется множество
других примеров.
335
335
§
25. Облик государства должен сохраняться одним и тем же, и, следовательно, царское достоинство должно принадлежать одному
лицу, отпрыску какой-нибудь одной династии, и государственная
власть должна оставаться неделимой. Я сказал, далее, что по праву
старший сын царя наследует отцу или (если нет детей) ближайший
кровный родственник царя; это явствует как из § 13 предшествующей
главы, так и из того, что избрание царя, произведенное народом, должно быть действительным, если только это возможно, на вечные
времена. Иначе неизбежен частый переход верховной власти
государства к народу, что является величайшей, а следовательно, и
опаснейшей переменой. Утверждающие же, что царь, как собственник
государства и как обладатель его по абсолютному праву, может
передавать его кому он хочет и избирать в преемники кого хочет и что
именно поэтому сын царя есть правомерный наследник престола, несомненно заблуждаются. Ведь воля царя имеет силу закона, пока он
держит в своих руках меч государства, так как право государства
определяется одной только мощью. Поэтому царь может, правда, отказаться от престола, но не может передать верховную власть
другому, разве только с согласия народа или его более значительной
части. Для более ясного уразумения этого следует заметить, что дети
являются наследниками родителей но по естественному, а по
гражданскому нраву. Ибо только мощь государства делает каждого
собственником каких-либо имущественных благ. Поэтому та же
мощь, или право, которой обусловливается действительность воли
кого-либо относительно его имущества, обусловливает то, что та же
воля даже после его смерти имеет действие, пока существует
государство; и, таким образом, в гражданском состоянии каждый
удерживает и после смерти то право, которым он обладал при жизни, ибо он, как мы сказали, может распоряжаться своим имуществом не в
силу собственной мощи, а в силу вечной мощи государства. Совсем
иное положение царя. Ведь воля царя есть само гражданское право, и
царь — само государство. Итак, с кончиной царя государство
некоторым образом умирает, гражданское состояние возвращается к
естественному и, следовательно, верховная власть естественным
образом — к народу, который вследствие этого по праву может
издавать новые законы и отменять старые. Отсюда ясно, что никто не
наследует царю
336
336
по праву, кроме того, кого народ хочет в наследники, или — в
теократии, какой некогда было еврейское государство, — того, кого
изберет бог через пророка. Это мы можем вывести еще из того, что
меч царя, или право, на самом деле есть воля самого народа или его
более значительной части; или также из того, что люди, одаренные
разумом, никогда не уступят своего права так, чтобы перестать быть
людьми и терпеть обращение с собою, как со скотом. Однако нет
нужды развивать это более подробно.
§
26. Право на религию или на богопочитание никто не может
перенести на другого. Однако об этом мы подробно говорили в
последних главах «Богословско-политического трактата», и повторять
это здесь излишне.
И
зложенным, по моему мнению, я достаточно ясно, хотя и кратко, доказал основы наилучшей формы монархической власти. Их же
взаимозависимость или слаженность государства легко заметит
каждый, кто только захочет за один раз обозреть их более или менее
внимательно. Остается только напомнить, что я имею здесь в виду
монархическую форму верховной власти, устанавливаемую
свободным народом, которому только и могут быть пригодны эти
основы. Ведь народ, привыкший к другой форме верховной власти, не
сможет, не рискуя гибелью всего государства, снести ранее принятые
основы и изменить строение всего государства.
§
27. Написанное нами будет, быть может, встречено насмешкой теми, кто пороки, присущие всем смертным, приписывает одному только
простонародью (plebs). По их словам, толпа (vulgus) не знает меры, она наводит ужас, если не устрашена; простой народ униженно
служит или высокомерно господствует, ему чужды истина и
способность суждения. Природа, однако, едина и обща всем. Но нас
вводят в заблуждение могущество и внешний лоск. Поэтому, когда
двое делают одно и то же, мы часто говорим: одному можно это
совершать безнаказанно, другому— нельзя, вследствие различия не в
поступках, но различия в деятелях. Высокомерие свойственно
господствующим. Уже назначение на должность, ограниченную
годовым сроком, внушает людям высокомерие, — что же сказать о
знати, за которой почетные должности закреплены на вечные
времена! Но ее надменность маскируется пышностью, роскошью, мотовством, какой-то согласованностью пороков, ученым
невежеством и изяществом
337
337
распутства, так что пороки, которые при рассмотрении их в
отдельности (тогда они более всего выступают на вид) окажутся
гнусными и позорными, неопытным и несведущим представляются
похвальными и пристойными. Далее, толпа не знает меры, она
наводит ужас, если не устрашена, — но свободу и рабство не так-то
легко совместить. Наконец, не удивительно, что простому народу
чужды истина и способность суждения, так как важнейшие дела
государства ведутся втайне от него и он делает догадки по тому
немногому, что не удается скрыть. Ведь воздержание от суждения —
редкая добродетель. Поэтому желать все вершить втайне от граждан и
вместе с тем желать, чтобы суждение их об этом не было превратным
и чтобы все не подвергалось толкованию в худшую сторону, есть верх
нелепости. Ведь если бы простой народ мог соблюдать меру и
воздерживаться от суждений относительно малознакомых дел или же
по тому немногому, что он узнал, правильно судить о делах, то, конечно, он был бы достоин более управлять, чем быть управляемым.
Но, как мы сказали, природа у всех одна и та же. Всем господство
внушает высокомерие, все наводят ужас, если не устрашены, и всюду
истина по большей части попирается ожесточением и раболепством, в
особенности там, где господствует один или немногие, которые при
разбирательствах смотрят не на право или истину, но на величину
богатства.
§
28. Наемные солдаты, освоившиеся с воинской дисциплиной и
привыкшие к холоду и голоду, смотрят обыкновенно свысока на
толпы граждан, считая их гораздо ниже себя в смысле пригодности
для наступательных действий. Однако ни один здравомыслящий
человек не будет утверждать, что государство по этой причине будет
менее счастливо или прочно. По, наоборот, каждый беспристрастный
наблюдатель признает, что то государство прочнее всех, которое
может только защищать приобретенное, а не домогаться чужого и
которое вследствие этого стремится всячески избегнуть войны и
сохранить мир.
§
29. Сознаюсь, впрочем, что едва ли возможно скрыть намерения этого
государства. Но вместе со мною каждый признает также, что
осведомленность врагов в правых намерениях государства гораздо
лучше сокрытия от граждан дурных происков тиранов. Лица, имеющие возможность втайне вершить дела государства, держат
последнее абсолютно в своей власти и так же строят гра-
338
338
жданам козни в мирное время, как врагу — в военное. Никто не может
отрицать, что покров тайны часто бывает нужен государству, но
никогда никто не докажет, что то же самое государство но в
состоянии существовать без него. Но, наоборот, никоим образом
невозможно вверить кому-либо все дела правления и вместе с тем
удержать за собою свободу; а поэтому нелепо желание величайшим
злом избегнуть незначительного ущерба. На самом деле у
домогающихся абсолютной власти всегда одна песнь: интересы
государства безусловно требуют, чтобы его дела велись втайне и т.д. и
т.д. Все это тем скорее приводит к самому злосчастному рабству, чем
более оно прикрывается видимостью пользы .
§
30. Наконец, хотя ни одно государство, насколько мне известно, не
было установлено сообразно с теми условиями, о которых мы
говорили, однако если мы рассмотрим причины сохранения и падения
какого-нибудь цивилизованного государства, то мы сможем из опыта
почерпнуть указания на то, что эта форма монархической власти
наилучшая. Но я не могу здесь этого сделать, не нагоняя большой
скуки на читателя. Однако один замечательный пример я не хочу
обойти молчанием. Я имею в виду государство арагонцев. Арагонцы, преисполненные исключительной верности и такого же постоянства
своим королям, сохранили в неприкосновенности установления
королевства. Сбросив рабское иго мавров, они немедленно
постановили избрать себе царя, но на каких условиях — относительно
этого между ними не было достигнуто полного согласия. Поэтому
было решено обратиться за советом к папе. Последний, ведя себя в
этом деле поистине как наместник Христа, упрекнул их в том, что
они, недостаточно вразумившись примером евреев, с таким упорством
желают царя; но на случай, если они не захотят изменить решения, он
посоветовал им не избирать царя, не установив предварительно
достаточно справедливых и согласных с характером нации
правоположений, и прежде всего создать какой-нибудь верховный
совет, который, как в Спарте эфоры, противостоял бы царю и имел
абсолютное право разрешать споры, могущие возникнуть между
царем и гражданами. Последовав этому совету, они установили
законы, которые казались им самыми справедливыми; их верховным
истолкователем и, следовательно, верховным судьей должен быть не
царь, но совет, который
339
339
носит название совета семнадцати и председатель которого именуется
«справедливость» (Justitia). Этот последний и эти семнадцать, избранные на всю жизнь не голосованием, но жребием, имеют
абсолютное право отменять и уничтожать все решения, постановленные против какого-либо гражданина другими
собраниями, как светскими, так и церковными, или самим царем, так
что каждый гражданин имеет право призвать на этот суд даже самого
царя. Кроме того, некогда они даже имели право избирать царя и
лишать его власти. Но впоследствии, по истечении многих лет, король
дон Педро, прозванный Кинжалом, происками, подкупами, обещаниями и задабриваниями всякого рода добился уничтожения
этого права (достигши этого, он в присутствии всех отрезал себе руку
кинжалом или, чему я более охотно поверю, поранил ее, сказав, что
избрание царя для подданных возможно только за такую цену, как
царская кровь), однако под таким условием: «Отныне они могут
взяться за оружие против всякого насилия, которым кто-нибудь
захотел бы захватить верховную власть к вреду для них, даже против
самого царя и будущего наследника престола, если он таким образом
захватывает власть». Этим условием они, конечно, не столько
уничтожили, сколько исправили свое прежнее право. Ведь (как мы
показали в §§ 5 и 6 гл. IV) царь не но гражданскому праву, но по
праву войны может быть лишен господства, или только его насилие
подданным дозволено отражать насилием. Кроме этого, были
определены другие условия, нашего предмета не касающиеся.
Проникнутые этими правоположениями, установленными с общего
решения, они в течение исключительно долгого времени были
ограждены от насилия: преданность подданных королю и преданность
короля подданным всегда были равны. Но после того как кастильский
престол перешел по наследству к Фердинанду, раньше всех
получившему титул «католического», эта свобода арагонцев стала для
кастильцев предметом зависти, и поэтому они настойчиво советовали
Фердинанду сократить эти вольности. Он же, не привыкнув еще к
абсолютной власти и не решаясь ничего предпринять, ответил
советникам следующее: «Не говоря уже о том, что престол арагонцев
я принял на известных вам условиях и торжественнейшим образом
поклялся исполнять эти условия и что не соответствует человеческому
достоинству
340
340
нарушать данное слово, я убежден, что мой престол будет крепок до
тех пор, пока в отношении безопасности подданные и царь будут
равны так, что ни царь перед подданными, ни народ перед царем не
будут иметь преимущества; ибо если та или другая сторона сделается
могущественнее, то более слабая сторона попытается не только
восстановить прежнее равенство, но, напротив, опечаленная
понесенным вредом, попытается перенести этот вред на другую, из
чего проистечет гибель или одной из них, или обеих вместе». Я, конечно, не мог бы в достаточной мере надивиться этим мудрым
словам, если бы они были произнесены царем, привыкшим повелевать
рабами, а не свободными людьми. Итак, арагонцы сохранили после
Фердинанда свободу — но уже не по праву, а по милости более
могущественных царей — до Филиппа II, который угнетал их с более
счастливым для себя исходом, но с не меньшей жестокостью, чем
Нидерландские провинции. И хотя Филипп III, по-видимому, восстановил все в прежнем состоянии, однако арагонцы —
большинство их желало угодить более могущественным (ведь плетью
обуха не перешибешь), а остальные были охвачены страхом — ничего
не сохранили от свободы, кроме пышных слов и пустых обрядов.
§
31. Итак, мы заключаем, что народ при царе может сохранить
достаточно обширную свободу, если только добьется того, чтобы
мощь царя определялась только мощью народа и защищалась самим
народом. Это было единственное правило, которому я следовал, закладывая основы монархической формы верховной власти.
ГЛАВА VIII
ОБ АРИСТОКРАТИИ
О ТОМ, ЧТО ГОСУДАРСТВО С АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ
ФОРМОЙ ПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ ИЗ БОЛЬШОГО
ЧИСЛА ПАТРИЦИЕВ; О ЕГО ПРЕВОСХОДСТВЕ И О ТОМ,
ЧТО ОНО БОЛЕЕ, ЧЕМ МОНАРХИЯ, ПРИБЛИЖАЕТСЯ
К АБСОЛЮТНОМУ И ЧТО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ОНО
БОЛЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНО К СОХРАНЕНИЮ СВОБОДЫ
§
1. До сих пор речь шла о государстве с монархическим образом
правления. Теперь же перейдем к изложению того, как надлежит
установить аристократическую форму верховной власти для придания
ей прочности. Аристократическая форма верховной власти, как мы
сказали,
341
341
есть та, при которой власть находится не у одного лица, но у
нескольких, выбранных из народа; в дальнейшем мы будем называть
их патрициями. Я подчеркиваю: при которой власть находится у
нескольких выбранных лиц. Ведь различие между аристократической и
демократической формами верховной власти состоит
преимущественно в том, что при первой право управления зависит
только от избрания, при второй же — главным образом от некоторого
прирожденного или же в силу случая приобретенного права (это мы
покажем в своем месте). Поэтому, хотя бы все население какого-либо
государства было принято в число патрициев, все-таки — если только
это право ненаследственно и не переходит к другим по общему закону
— форма верховной власти, безусловно, будет аристократической, поскольку избрание составляет непременное условие для приема в
число патрициев.
Е
сли патрициев будет только двое, то они будут стремиться к
превосходству друг над другом, и государство легко вследствие
чрезмерной мощи каждого из них разделится на две части или то —
если власть была сосредоточена в руках трех, четырех или пяти лиц —
на три, на четыре, на пять частей. Но части будут тем слабее, чем
больше число тех, на которых была перенесена верховная власть.
Отсюда следует, что при определении минимального числа патрициев, нужного для устойчивости аристократии, необходимо сообразоваться
с величиной самого государства.
§
2. Итак, допустим, что для государства средней величины достаточно
сотни лучших людей (optimi), на которых была бы перенесена
верховная власть государства и которым, следовательно, в случае
смерти кого-либо из них принадлежало бы право избрания коллег, патрициев. Они, без сомнения, приложат все старания к тому, чтобы
их преемниками были их дети или ближайшие родственники.
Вследствие этого верховная власть государства всегда будет у тех, кому посчастливилось быть детьми или кровными родственниками
патрициев. И так как из сотни людей, достигших вследствие
счастливого стечения обстоятельств патрицианского звания, едва ли
найдутся трое, обладающих надлежащей сообразительностью и
благоразумием, то в результате, следовательно, власть государства
окажется в руках не ста, а только двух или трех лиц; благодаря своим
дарованиям им нетрудно будет со-
342
342
средоточить все в своих руках, и каждый из них в силу
общечеловеческих склонностей постарается проложить себе дорогу к
монархии. Таким образом, если мы произведем правильный расчет, то
окажется, что необходимо, чтобы верховная власть государства, для
которого по его размерам нужно по крайней мере сто лучших людей, была перенесена по крайней мере на пять тысяч патрициев. При таком
расчете никогда не будет недостатка в сотне выдающихся людей; при
том именно допущении, что из пятидесяти лиц, домогающихся и
достигающих патрицианского звания, всегда найдется один, не
уступающий наилучшим, не говоря уже о тех, которые стремятся
подражать доблести наилучших и потому достойны принять участие в
управлении.
§
3. По большей части патриции состоят гражданами одного города —
столицы всего государства; так что государство зовется по нему, как
некогда Римское, в настоящее время Венецианское, Генуэзское и т.д.
Голландская же республика заимствует имя от целой провинции, с
чем связано то, что подданные этого государства пользуются большей
свободой.
П
режде чем обратиться к определению тех основ, на которых следует
утвердить эту аристократическую форму верховной власти, необходимо отметить различие между властью, перенесенной на одно
лицо, и властью, перенесенной на достаточно многочисленное
собрание, совет (Consilium). Ясно, что различие это огромно. Во-
первых, мощь одного человека (как мы сказали в § 35 гл. VI) незначительна по сравнению с бременем всей верховной власти, чего
никто не может сказать без очевидного абсурда о достаточно большом
совете. Ведь кто утверждает, что данное собрание достаточно велико, тот тем самым отрицает, что ему не под силу бремя верховной власти.
Поэтому царь постоянно нуждается в советниках, такого же рода
совет — менее всего. Далее, цари смертны, советы, напротив, вечны.
Следовательно, мощь верховной власти, однажды перенесенная на
достаточно многочисленное собрание, в противоположность
монархической форме власти, никогда не возвращается к народу (как
мы показали в § 25 пред. гл.). В-третьих, власть царя вследствие его
малолетства, болезни, старческой дряхлости или по другим причинам
часто бывает непрочной, наоборот, мощь такого совета всегда
остается одной и той же. В-четвертых,
343
343
воля одного человека весьма изменчива и непостоянна. По этой
причине при монархическом образе правления вес право есть
изъявленная воля царя (как мы разъяснили в § 1 пред. гл.), но не
всякая воля царя должна быть правом, чего нельзя сказать о воле
достаточно многочисленного совета. Так как само собрание (как мы
только что показали) не нуждается в советниках, то всякая
изъявленная его воля необходимо должна быть правом. Отсюда мы
заключаем, что верховная власть, перенесенная на достаточно
многочисленный совет, является абсолютной или наиболее близкой к
таковой. Ибо если и есть какая-нибудь абсолютная власть, то
поистине это есть та, которой обладает весь народ (multitudo).
§
4. Поскольку при этом аристократическом образе правления власть
никогда (как мы только что показали) не возвращается к народу и при
нем народ не имеет никакого голоса, но безусловно всякая
изъявленная воля верховного совета есть право, — такая власть
всецело должна рассматриваться как абсолютная. Ее основы, следовательно, должны опираться исключительно на волю и суждение
этого совета, а не на бдительность народа, так как для него
недоступны ни участие в совещаниях, ни голосование. Причина же
того, что на практике эта власть не абсолютна, заключается
единственно в том, что народ внушает страх власть имущим; поэтому
народ сохраняет за собой некоторую свободу, которая хотя и не имеет
прямой опоры в законе, однако молчаливо отстаивается им и
оставляется за собою.
§
5. Итак, очевидно, что в наилучших условиях эта форма верховной
власти будет находиться тогда, когда она по своему устройству более
всего подойдет к абсолютной, т.е. когда народ возможно менее будет
внушать к себе страха и не удержит никакой свободы, кроме той, которую по необходимости следует ему уделить в силу устройства
самой верховной власти и которая поэтому является правом не
столько народа, сколько всего государства, правом, отстаиваемым и
охраняемым одними патрициями (optimatos), как их собственное
право. При таком положении вещей, как это явствует из
предшествующего параграфа и очевидно само по себе, практика более
всего будет согласовываться с теорией. Но можем же мы сомневаться, что верховная власть тем меньше будет в руках патрициев, чем
больше нрав присвоит себе народ, нрав вроде тех,
344
344
которыми обыкновенно обладают в Нижней Германии союзы
ремесленников, называемые гильдиями.
§
6. То обстоятельство, что верховная власть безусловно перенесена на
совет, не должно внушать простонародью опасения впасть в
презренное рабство. Ведь воля столь большого совета определяется не
столько прихотью, сколько разумом, ибо дурные аффекты влекут
людей врозь, и единодушие может установиться лишь постольку, поскольку люди стремятся к благородному или по крайней мере к
тому, что кажется таким.
§
7. Итак, при определении основ аристократической формы верховной
власти следует прежде всего обратить внимание на то, чтобы они
держались исключительно волей и мощью означенного верховного
совета, чтобы сам совет, насколько это возможно, являлся
своенравным и не подвергался опасности со стороны народа. Для
определения этих основ, опирающихся именно на одну только волю и
мощь верховного совета, рассмотрим основы мира, свойственные
монархической форме верховной власти и чуждые настоящей. Ведь
если мы заменим их другими, столь же надежными основами, соответствующими аристократической форме верховной власти, и
сохраним в прежнем виде остальные, то, без сомнения, все причины к
возмущениям будут устранены, и во всяком случае это государство
будет не менее прочно, чем монархическое; наоборот, оно будет тем
лучше, чем более оно в сравнении с монархическим приблизится к
абсолютному без ущерба для мира и свободы (см. §§ 3 и 6 наст. гл.).
Ведь, чем обширнее право верховной власти, тем более (согласно § 5
гл. III) форма государства согласуется с велением разума и, следовательно, тем более благоприятствует сохранению мира и
свободы. Итак, окинем беглым взором то, что было сказано в § 9
гл. VI, чтобы отбросить чуждое для аристократии и усмотреть
соответствующее ей.
§
8. Прежде всего необходимо основать и укрепить один или несколько
городов, — в этом никто сомневаться не может. Но главным образом
надлежит укрепить город, являющийся столицей всего государства, а
затем те, которые расположены по окраинам государства. Ибо тот
город, который является столицей всего государства и обладает
верховным правом, должен быть могущественнее всех. Что же
касается разделения граждан на роды, то в таком государстве оно
представляется излишним.
345
345
§
9. Переходим к ополчению (milltia). Так как в этом государстве
равенство должно соблюдаться не между всеми, но лишь между
патрициями и так как (что особенно важно) мощь патрициев больше, чем простонародья, то несомненно, что требование, чтобы ополчение
состояло исключительно из подданных (subditi), не входит в основные
законы или правоположения этого государства. Необходимо прежде
всего, чтобы никто не принимался в число патрициев без
основательного знакомства с военным искусством. Однако полное
недопущение подданных в ополчение, как того желают некоторые, —
явная несуразность. Ведь, не говоря уже о том, что жалованье за
военную службу, уплачиваемое подданным, остается в самом
государстве, в то время как то, которое уплачивается ополчению, составленному из иностранцев, для государства совершенно
утрачивается, этим еще и ослабляется величайшая сила государства; ибо несомненно, что те сражаются с особым воодушевлением, кто
сражается за веру и отечество. Отсюда также ясно, что не менее
заблуждаются и те, которые полагают, что военачальников, трибунов, центурионов и т.д. надлежит избирать из одних только патрициев.
Ведь какую же доблесть проявят в сражении воины, у которых будет
отнята всякая надежда на достижение славы и почестей? С другой
стороны, установить законом, что патрициям возбраняется нанимать
чужеземное войско, когда того требуют обстоятельства — или для
своей защиты и подавления восстаний, или но каким-либо другим
причинам, — не только не благоразумно, но даже противно их
высшему праву (о котором см. §§ 3, 4, 5 наст. гл.). Впрочем, вождь
отдельного корпуса или всего ополчения должен избираться только в
случае войны, притом из одних только патрициев; начальствование
должно находиться в его руках не более одного года, и нельзя ни
продлить срока его полномочий, ни избрать его вторично; такое
постановление, необходимое при монархической форме верховной
власти, в еще большей мере необходимо при аристократической.
Хотя, как мы уже сказали выше, переход верховной власти от одного
лица к другому гораздо более легок, чем от свободного собрания
(совета) к одному лицу, однако часто случается, что патриции
угнетаются своими военачальниками, и это сопряжено с куда
большим вредом для государства. Ведь низложение монарха влечет за
собой перемену не в государственном
346
346
строе, но только в личности тирана; при аристократической же форме
верховной власти ничего подобного не может произойти без
ниспровержения государственного строя и истребления наиболее
выдающихся людей. История Рима дала печальнейшие примеры
этого. Основание, по которому мы утверждали, что при
монархической форме верховной власти ополчение должно служить
без жалованья, недействительно для настоящей. Ведь, поскольку
подданные не допускаются к участию в совещаниях и подаче голосов, постольку их следует рассматривать как иностранцев, а поэтому
условия для поступления на военную службу не должны быть для них
худшими, чем для иностранцев. И нечего опасаться того, что совет
окажет им предпочтение перед остальными. Во избежание же
преувеличенной оценки со стороны кого-либо своих заслуг (а это
явление обычное) всего лучше было бы, если бы патриции назначали
воинам определенное вознаграждение за службу.
§
10. Кроме того, по той же причине (т.е. потому что все, за
исключением патрициев, — иностранцы) невозможно, не подвергая
опасности все государство, оставить за государством и сдавать
населению за ежегодную плату поля, дома и всю землю. Ведь
подданные, не причастные к власти, при неблагоприятных
обстоятельствах не задумались бы покинуть все города, если бы
имущество, которым они владеют, им было дозволено переносить
куда угодно. Поэтому поля и земельные участки такого государства
следует не сдавать, но продавать подданным, с тем, однако, условием, чтобы они ежегодно уплачивали некоторую часть годового дохода и
т.д., как это имеет место в Голландии. § 11. Теперь перехожу к
выяснению тех основ, опираясь на которые верховный совет упрочит
свое положение. В § 2 наст. гл. было указано, что в государстве
средней величины число членов этого совета должно быть
приблизительно равно пяти тысячам человек. Поэтому следует
изыскать меры к тому, чтобы власть не перешла мало-помалу к
меньшему числу лиц, но, наоборот, чтобы число их возрастало по
мере увеличения самого государства; чтобы в среде патрициев по
возможности сохранялось равенство; чтобы в советах не было
задержек в делах; чтобы соблюдалось общее благо и, наконец, чтобы
мощь патрициев или совета превосходила мощь народа, однако так, чтобы он не терпел от этого никакого ущерба.
347
347
§
12. Зависть есть причина величайшей трудности при разрешении
первой из поставленных задач. Как мы сказали выше, люди — по
природе враги, и хотя законы связывают и сдерживают их, однако их
природные свойства остаются теми же. На мой взгляд, по этой же
причине демократическая форма верховной власти переходит в
аристократическую, а последняя — в монархическую. Я вполне
убежден в том, что большинство аристократий первоначально было
демократиями: когда народ после поисков новых мест для поселения
находил и возделывал их, то равное право на властвование
удерживалось у всех членов его без исключения, так как никто
добровольно не уступает власти другому. Но хотя каждый из них
считает справедливым, чтобы то право, которым обладает другой в
отношении него, принадлежало бы ему самому в отношении другого, однако им кажется несправедливым, чтобы иностранцам, стекающимся к ним, принадлежало равное с ними право в
государстве, которое они добыли трудом и которым овладели ценою
своей крови. Да против этого не возражают и сами иностранцы, так
как они переселяются туда не для властвования, но для устройства
своих частных дел и почитают себя вполне удовлетворенными, если
им предоставлена свобода в безопасности заниматься своими делами.
Между тем народонаселение возрастает вследствие прилива
иностранцев; они мало-помалу перенимают нравы коренных жителей, и в конце концов между теми и другими остается единственное
различие: иностранцы лишены права занимать почетные должности; но, в то же время как с каждым днем увеличивается число
пришельцев, число граждан, напротив, уменьшается по многим
причинам. Ведь часто вымирают целые роды, иные граждане
лишаются прав за преступления, и очень многие вследствие
стесненного положения личных дел пренебрегают делами правления, тогда как более могущественные только и помышляют о захвате в
свои руки правления, — и вот власть мало-помалу переходит к
немногим и, наконец, вследствие заговора — к одному. Мы могли бы
указать еще и на другие причины, действующие разрушительно на
такие государства; однако, ввиду их общеизвестности, я на них не
останавливаюсь и перейду теперь к изложению по порядку законов, которые должны уберечь от гибели государство, о котором идет речь.
348
348
§
13. Важнейшим законом этого государства будет тот, которым
определяется отношение числа патрициев к народу (multitudo). Это
отношение (согласно § 1 наст. гл.) следует строго соблюдать, чтобы
таким образом число патрициев увеличивалось соразмерно с
увеличением народа. Число патрициев должно (согласно сказанному в
§ 2 наст. гл.) относиться к численности народа, приблизительно как
единица — к пятидесяти, т.е. неравенство между ними никогда не
должно быть большим. Ведь (согласно § 1 наст. гл.) число патрициев
может быть намного больше в сравнении с численностью народа, что
нисколько не отразится на форме верховной власти. Опасность —
лишь в недостаточности числа патрициев. Какими средствами должна
быть обеспечена нерушимость этого закона, скоро будет показано
нами.
§
14. Патриции избираются только из некоторых родов и в
определенных местностях. Но прямо выразить это в законе опасно.
Ибо к тому обстоятельству, что роды сплошь и рядом вымирают и что
исключением остальных задевается их честь, присоединяется еще и
то, что с этой формой верховной власти наследственность
патрицианского достоинства несовместима (согласно § 1 наст. гл.). Но
при таком допущении форма верховной власти скорее является
демократической, вроде той, которую мы описали в § 12 наст. гл., где
именно верховная власть сосредоточена в руках весьма
незначительного числа граждан. С другой стороны, принимать меры
против того, чтобы патриции избирали своих детей и родственников, т.е. чтобы право управления оставалось у определенных родов, невозможно, даже нелепо, как я покажу в § 39 наст. гл. Лишь бы
только это их право не опиралось на явный закон и не исключались
бы остальные (т.е. те, которые рождены в государстве, говорят на
отечественном языке, не женаты на иностранках, ничем не опорочены, не батраки, не добывают средств к существованию каким-либо
недостойным свободного человека трудом — к последним
принадлежат виноторговцы и пивовары), и форма верховной власти
удержится, и всегда можно будет сохранить должное отношение
между патрициями и народом.
§
15. Кроме того, если будет установлено законом, чтобы избирались
только более пожилые, то никогда не случится, что немногие роды
удержат за собою право на
349
349
властвование (управление). Поэтому следует установить законом, чтобы условием внесения в избирательные списки было достижение
тридцатилетнего возраста.
§
16. Наконец, следует установить, чтобы все патриции собирались в
определенное время в каком-либо месте города и на всякого, кто не
будет присутствовать на совете, налагался значительный денежный
штраф, разве только его задержит болезнь или какое-нибудь
общественное дело. Ведь при отсутствии такого постановления
большинство, отвлекаемое домашними делами, пренебрежет делами
общественными.
§
17. На обязанности этого совета лежит издание и отмена законов, избрание коллегии патрициев и всех должностных лиц государства.
Ведь невозможно, чтобы тот, кто обладает верховным правом, — а мы
допустили, что настоящий совет обладает им, — передал кому-либо
другому власть издавать и отменять законы, не отказавшись в то же
время от своего права и не перенеся его на того, кому он передал
означенную власть; ибо, кто в течение хотя бы одного дня обладает
властью издавать и отменять законы, тот может изменить всю форму
верховной власти. Напротив, обладатель верховного права может, не
теряя его, поручить другим на определенный срок согласное с
установленными законами управление текущими государственными
делами. Кроме того, если бы должностные лица государства
избирались помимо этой коллегии, то в таком случае ее члены
заслуживали бы скорее названия малолетних (pupilli), чем патрициев
(отцов).
§
18. Некоторые присоединяют к этому совету правителя, или главу, или на все время жизни, как венецианцы, или на определенный срок, как генуэзцы, однако с такими предосторожностями, которые не
оставляют сомнения в том, что это делается не без большой опасности
для государства. Нельзя, конечно, сомневаться в том, что форма
верховной власти в таком случае приближается к монархической; насколько мы в состоянии судить по истории этих народов, это
произошло по той причине, что до установления таких советов они
находились в подчинении у верховного вождя, или дожа, как у царя.
Избрание, следовательно, верховного вождя является
необходимостью только для некоторых народностей, но не для
аристократической формы верховной власти, рассматриваемой
независимо от других.
350
350
§
19. Верховная власть этого государства принадлежит всему
означенному совету в целом, но не каждому его члену в отдельности
(иначе это было бы беспорядочное скопище); поэтому необходимо, чтобы законы так связали всех патрициев, чтобы они составили как
бы единое тело, руководимое единым духом. Законы же сами по себе
бессильны и легко нарушаются там, где на страже их стоят люди, которые сами могут их нарушать; ведь наказание должно служить их
же собственному вразумлению и [тогда] своих коллег им придется
наказывать с той целью, чтобы страхом той же кары обуздать свои
влечения, — что величайшая нелепость. Итак, следует изыскать
средство оградить от нарушения строй этого верховного собрания и
законы государства, однако так, чтобы менаду патрициями
сохранялось по возможности равенство.
§
20. Назначение единоличного правителя, или главы, также имеющего
голос в советах, с необходимостью должно повлечь за собой
значительное неравенство — главным образом вследствие той власти, которую необходимо предоставить ему для того, чтобы он был в
состоянии без помех исправлять свою должность. При всестороннем
обсуждении этого я прихожу к выводу, что общему благу наиболее
соответствует установление над этим верховным советом другого
[совета] из нескольких патрициев, вся обязанность которых сводилась
бы исключительно к тому, чтобы следить за неукоснительным
соблюдением законов государства о советах и о государственных
чиновниках. Вследствие этого они должны иметь власть всякого
совершившего преступление государственного чиновника
(нарушившего законы, касающиеся его должности) призвать к себе на
суд и осудить по действующим законам. В дальнейшем мы будем
называть их синдиками (syndici).
§
21. Синдики избираются на всю жизнь. Ведь если бы они избирались
на определенный срок, так что с его истечением они могли бы
призываться на другие государственные должности, то получилась бы
та же нелепость, о которой мы только что говорили (в § 19 наст. гл.).
Но во избежание чрезмерного высокомерия синдиков в связи со столь
продолжительным господством на эту должность следует избирать
только достигших шестидесятилетнего и более преклонного возраста
и отправлявших должность сенатора (о которой ниже).
351
§
22. Мы легко определим число синдиков, если примем во внимание, что эти синдики относятся к патрициям так, как все патриции вместе
— к народу, править которым они не могут, если число их меньше
надлежащего. Таким образом, число синдиков должно относиться к
числу патрициев, как число этих последних — к численности народа, 351
т.е. (согласно § 13 наст. гл.) как 1 к 50.
§
23. Необходимо, кроме того, чтобы при этом совете для обеспечения
ему возможности без помех исправлять свою должность состояла
подчиненная его распоряжениям какая-нибудь воинская часть.
§
24. Синдикам, как и другим государственным чиновникам, следует
определить не жалованье, а особые доходы такого рода, чтобы дурное
управление государством влекло за собою большой вред для них же
самих. Мы не можем сомневаться в том, что справедливость требует
назначения чиновникам этого государства вознаграждения за службу, так как большую часть его составляет простонародье, о безопасности
которого заботятся патриции; сам же он заботится не об общем благе, но только о своих частных нуждах. Но так как никто (как мы сказали в
§ 4 гл. VII) не защищает чужого интереса, если не надеется тем самым
упрочить своего личного благосостояния, то необходимо устроить
так, чтобы наибольшая личная выгода чиновников, попечению
которых вверены дела правления, зависела от наибольшей заботы об
общем благе.
§
25. Итак, синдикам, на обязанности которых лежит, как мы сказали, наблюдение за неукоснительным соблюдением законов государства, следует определить следующие особые доходы. Каждый отец
семейства, имеющий в государстве какое-нибудь местожительство, обязан ежегодно уплачивать синдикам по малоценной монете, хотя бы
четверть унции серебра, чтобы благодаря этому синдики могли
определять количество жителей и таким образом наблюдать за тем, какую его часть составляют патриции. Далее, каждый вновь
избранный патриций немедленно по своем избрании должен уплатить
синдикам какую-нибудь значительную сумму, например двадцать или
двадцать пять фунтов серебра. Кроме того, деньги, к уплате которых
присуждаются отсутствующие патриции (именно те, которые не
явились на созванный совет), также следует обратить на пользу
синдиков. Помимо этого, к ним же поступает часть имущества тех
провинившихся чиновников, обязанных
352
352
явиться на их суд, которые будут оштрафованы на определенную
сумму денег или же приговорены к конфискации всего имущества; однако эти суммы идут в пользу не всех синдиков, но только тех, которые ежедневно участвуют в заседаниях и на обязанности которых
лежит созыв совета синдиков (о которых см. § 28 наст. гл.). Для того
чтобы совет синдиков всегда состоял из надлежащего числа членов, вопрос об этом следует поставить в первую очередь в созванном в
обычное время верховном совете. Если же синдики не подымут его, то
председатель сената (о нем речь будет ниже) обязан довести об этом
до сведения верховного совета, потребовать от председателя синдиков
объяснения относительно причины молчания и осведомиться о
мнении верховного совета по данному предмету. Если же и он хранит
молчание, то председатель верховного суда, а при его молчании
какой-либо другой патриций, берет дело на себя и требует объяснения
причины молчания как от председателя синдиков, так и от
председателей сената и суда. Затем, в целях строгого соблюдения
закона, которым исключаются не достигшие определенного возраста, следует установить, чтобы все достигшие тридцатилетнего возраста и
не устраненные прямо законом от управления позаботились о
внесении своего имени в список в присутствии синдиков и о
получении от них какого-нибудь знака достоинства, приобретенного
за определенную цену; им можно было бы в отличие и в обеспечение
почета от других присвоить одежду определенного покроя. Вместе с
тем должно быть постановлено законом: ни один патриций не смеет
— под страхом тяжкого наказания — во время выборов выставить
кандидатуру какого-нибудь лица, не занесенного в общий список.
Кроме того, никому не должен быть дозволен отказ от должности или
службы, для отправления которых он избран. Наконец, для вечного
действия безусловно основных законов государства необходимо такое
постановление- всякий, кто в верховном совете подымет вопрос о
каком-либо основном законе, например о продлении срока
полномочий какого-либо военачальника или об уменьшении числа
патрициев и т.д., тем самым уже явится оскорбителем Величества; он
не только осуждается на смертную казнь, а его имущество
конфискуется, но в назидание потомству его кара увековечивается
каким-нибудь знаком, воздвигнутым на видном месте. Для упрочения
же остальных законов государства
353
353
достаточно постановления такого содержания: отмена закона или
издание нового закона невозможны, если на то не будет дано согласия
сперва совета синдиков, а затем трех четвертей или четырех пятых
членов верховного совета.
§
26. Право созыва верховного совета и доклада дел, подлежащих
разрешению в нем, принадлежит синдикам, которым в совете
отводится первое место. Но правом голоса они не пользуются. До
занятия же мест синдики должны поклясться благом этого верховного
совета и общей свободой в том, что приложат все старания к
ограждению отечественных законов от нарушений и к соблюдению
общего блага. Вслед за этим они через своего секретаря приступают
по порядку к докладу дел.
§
27. Всем патрициям при разборе дел и при избрании государственных
чиновников должна принадлежать равная власть; делопроизводство не
должно быть медленным. В этом отношении всецело заслуживает
одобрения порядок, принятый венецианцами. При назначении
государственных чиновников они избирают из совета по жребию
несколько лиц, которые по порядку называют кандидатов на
известную должность. В это время каждый патриций шарами
выражает свое мнение, т.е. одобряет ли он или нет избрание
намеченного кандидата, так что остается неизвестным, кто именно
выразил данное мнение. В результате достигается, с одной стороны, равенство значения патрициев при разборе дел и ускорение
делопроизводства, с другой же стороны, — и это вопрос первой
необходимости в советах — абсолютная свобода каждого высказывать
свое мнение без опасения навлечь на себя чью-либо неприязнь.
§
28. В совете синдиков и остальных советах следует соблюдать тот же
порядок, т.е. голосование должно производиться шарами. Право
созыва совета синдиков и доклада дел, подлежащих его разрешению, принадлежит председателю. Он совместно с десятью или большим
числом синдиков ежедневно заседает для выслушивания жалоб
простонародья на чиновников и секретных обвинений, для
задержания, в случае надобности, обвинителей и для созыва совета
даже раньше срока, в который он должен собраться, если кто-либо из
синдиков в промедлении усмотрит опасность. Этот председатель и те
лица, которые ежедневно заседают совместно с ним, должны
избираться верховным советом из числа синдиков, однако не на всю
354
354
жизнь, но на шесть месяцев; снова они могут быть избраны только по
прошествии трех или четырех лет. В их пользу — согласно
вышесказанному — идут конфискованное имущество и денежные
штрафы или какая-либо часть их. Об остальном, касающемся
синдиков, мы скажем в своем месте.
§
29. Второй совет, подчиненный верховному, мы будем называть
сенатом. На его обязанности лежит заведование государственными
делами, обнародование, например, государственных законов, наблюдение за тем, чтобы укрепления городов соответствовали
закону, жалование грамот ополчению, обложение подданных
налогами и собирание их, ответ иностранным послам и решение
вопроса о том, куда следует отправить послов. Однако выбор самих
послов лежит на обязанности верховного совета. Ведь для того чтобы
патриции не старались снискать себе расположение сената, следует
прежде всего держаться того правила, что патриций может быть
призван к отправлению какой-либо государственной должности
только самим верховным советом. Затем, к его ведомству относится
все то, что в каком-либо отношении изменяет существующее
положение вещей, как-то: объявление войны и заключение мира.
Поэтому декреты сената о войне и мире для своего осуществления
нуждаются в одобрении верховным советом. На этом основании я
счел бы правильным, чтобы обложение новыми налогами относилось
к ведомству одного только верховного совета, а не сената.
§
30. Для определения числа сенаторов следует принять в соображение
следующее: во-первых, надежда на принятие в сенаторское сословие
должна быть равной для всех патрициев; затем, сенаторы по
истечении того срока, на который они были избраны, должны иметь
возможность снова быть избранными после небольшого промежутка, чтобы, таким образом, государство всегда управлялось опытными и
сведущими людьми; и, наконец, к числу сенаторов должно
принадлежать много лиц, известных мудростью и доблестью. Для
осуществления всех этих условий нельзя придумать ничего лучшего, как установить законом, что в сословие сенаторов принимаются
только достигшие пятидесятилетнего возраста; четыреста патрициев, т.е. приблизительно одна двенадцатая общего их числа, избираются
сроком на год, а по истечении двух лет после означенного срока они
снова могут быть избраны.
355
355
Таким образом, приблизительно одна двенадцатая часть патрициев
(при краткости срока, в течение которого запрещено переизбрание) всегда будет занимать сенаторскую должность — это число, конечно, вместе с тем, какое составляют синдики, будет немногим меньше
числа патрициев, достигших пятидесятилетнего возраста. Всем
патрициям, следовательно, будет открыта широкая возможность
вступления в сословие сенаторов или синдиков, и, однако, одни и те
же патриции, за исключением указанного нами краткого срока, в
течение которого запрещено переизбрание, всегда будут обладать
сенаторским званием, и в сенате (согласно сказанному в § 2 наст. гл.) никогда не будет недостатка в выдающихся людях, отличающихся
рассудительностью и мудростью. Так как нарушение этого закона
должно повлечь за собой недовольство многих патрициев, то для
обеспечения его незыблемости достаточно следующего: всякий
патриций, достигший возраста, о котором мы говорили, должен
удостоверить это перед синдиками, которые заносят его имя в список
лиц, предназначаемых к занятию сенаторской должности, и
объявляют об этом в верховном собрании, чтобы он вместе с другими, находящимися в равном с ним положении, занял в ней отведенное для
подобных ему лиц место рядом с сенаторским.
§
31. Доходы сенаторов должны быть таковы, чтобы для них мир был
выгоднее, чем война; поэтому с ввозимых или вывозимых товаров
одна сотая или одна пятидесятая часть идут в их пользу. Ведь мы не
можем сомневаться в том, что при таком условии они будут
сохранять, насколько возможно, мир и никогда не будут стараться
затянуть войну. От уплаты этой пошлины не должны быть свободны и
сенаторы, занимающиеся торговлей, ибо такая льгота сопряжена с
большим подрывом торговли, что, думаю, известно всякому. С другой
стороны, следует, далее, установить законом, чтобы сенатор или
отправлявший должность сенатора не мог служить в ополчении и, кроме того, чтобы вождем или претором (мы уже выяснили в § 9 наст.
гл., что они должны стоить во главе войска только во время войны) нельзя было назначать того, чей отец или дед — сенатор или не более
двух лет назад сложил сенаторское звание. Едва ли можно
сомневаться в том, что патриции, не входящие в сенат, будут стоять
грудью за эти законы. Таким образом, для сенаторов мир
356
356
всегда будет выгоднее войны, а поэтому они никогда не будут
предлагать войны, разве только под давлением крайней
государственной необходимости. Нам могут возразить, что при таком
порядке — если именно в пользу синдиков или сенаторов будут
определены столь значительные доходы — аристократическая форма
верховной власти будет обременительна для подданных не менее, чем
любая монархическая. Но не говоря уже о том, что содержание
царского двора требует больших расходов, бесполезных, однако, для
сохранения мира, и что мир никогда не может быть куплен слишком
дорогою ценою, следует прежде всего принять в соображение, что
блага, переходящие при монархической форме верховной власти к
одному или немногим, здесь распределяются среди очень большого
числа лиц. Далее, цари и их слуги не разделяют с подданными
государственных тягот, здесь же происходит обратное, так как
патриции, которые избираются из наиболее богатых, покрывают
большую часть расходов по делам правления. Затем, не столько
расходы на особу царя, сколько секретные расходы, свойственные
монархической форме верховной власти, составляют источник ее
тягот. Ведь тяжесть государственных налогов, которыми граждане
облагаются для сохранения мира и свободы, хотя и велика, однако
легко переносится и не вызывает ропота ввиду блага мира. Какой
народ должен был платить столь большие подати, как голландцы? И, однако, они не только не были ими истощены, но, наоборот, настолько
разбогатели, что их благосостояние составляло предмет общей
зависти. Итак, если бы тяготы монархии возлагались в целях мира, то
не они угнетали бы граждан, но, как я сказал, секретные расходы —
причина того, что подданные изнемогают под тяжестью [налогов].
Ведь доблесть царей больше проявляется во время войны, чем во
время мира, и желающие единолично царствовать должны прилагать
все усилия к тому, чтобы их подданные были бедны. Я умалчиваю об
остальных, о том, что в свое время отметил мудрый голландец V.H.15, так как это не относится к моей задаче — описать наилучшее
состояние каждой формы верховной власти.
§
32. В сенате должны заседать несколько синдиков, избранных
верховным советом, но без права голоса. Они наблюдают за
правильным исполнением законов, касающихся этого совета, и
созывают верховный совет, когда
357
357
что-либо из сената должно поступить в него. Ведь право созыва этого
верховного совета и доклада дел, подлежащих в нем решению, принадлежит, как мы сказали, синдикам. Но до отобрания голосов о
подобных делах тот, кто в это время председательствует в сенате, должен изложить положение вещей и мотивированное мнение самого
сената относительно доложенного дела; после этого следует
голосование в установленном порядке.
§
33. Сенат в полном составе должен собираться не ежедневно, но, как
и все большие собрания, в какие-нибудь определенные сроки. Но так
как и в промежуточное время дела требуют разрешения, то является, следовательно, необходимой комиссия сенаторов, которая по
роспуске сената занимала бы его место. На ее обязанности лежит
созыв в случае нужды самого сената, исполнение его декретов
относительно дел правления, прочтение писем, адресованных на имя
сената и верховного совета, и, наконец, совещание по делам, подлежащим докладу в сенате. Для облегчения понимания всего
изложенного и структуры всего этого совета я остановлюсь на этом
несколько дольше.
§
34. Сенаторы, избираемые, как мы сказали, на год, разделяются на
четыре или шесть отделов. Первый в течение первых трех или
четырех месяцев занимает в сенате первое место; по прошествии этого
времени место первого занимает второй отдел; таким образом, чередуясь друг с другом, все отделы в течение равных промежутков
времени занимают в сенате первое место, так что тот отдел, который в
первые месяцы был первым, в следующие будет последним. Кроме
того, в каждом отделе избираются председатель и заменяющий его в
случае надобности вице-председатель, т.е. в каждом отделе
избираются двое: председатель и вице-председатель данного отдела.
Председатель первого отдела председательствует в сенате в течение
первых месяцев, а в случае его отсутствия его заменяет вице-
председатель; точно так же и остальные в указанном выше порядке.
Затем из первого отдела жребием или голосованием избирается
несколько сенаторов, которые вместе с председателем и вице-
председателем того же отдела занимают место сената по его роспуске
в течение того именно промежутка времени, когда их отдел занимает
в сенате первое место; по истечении этого промежутка времени из
второго отдела
358
358
также жребием или голосованием избирается то же число сенаторов, которые вместе со своим председателем и вице-председателем
заступают место первого отдела и заменяют сенат и т.д. Нет нужды, чтобы избрание этих сенаторов — они избираются, как я сказал, жребием или голосованием на три или два месяца, и их в дальнейшем
мы будем называть консулами — производилось верховным советом.
Здесь не имеет силы основание, указанное в § 29 наст. гл., и
основание, указанное в § 17 этой же гл. Вполне допустимо, следовательно, чтобы их избрание было произведено сенатом и
присутствующими синдиками.
§
35. Я не могу, однако, с той же точностью определить их число. Но
несомненно, что число их должно быть настолько значительным, чтобы их нелегко было подкупить. Ведь хотя они сами лично ничего
не решают о делах правления, однако они могут отсрочивать созыв
сената или — что еще хуже — вводить его в заблуждение, докладывая
то, что не имеет никакого значения, и умалчивая о том, что имеет
большое значение. Я уже не говорю о том, что если число их слишком
незначительно, то отсутствие того или другого из них может повлечь
за собою застой в государственных делах. Но, с другой стороны, так
как причина избрания этих консулов заключается в том, что
многолюдные советы не в состоянии ежедневно заниматься
государственными делами, то необходимо избрать здесь средний
путь: гарантию, которой не дает численность, следует искать в
краткости срока. Поэтому если будет избрано хотя бы тридцать
консулов сроком приблизительно на два или на три месяца, то число
их будет достаточно значительным, чтобы исключить возможность их
подкупа в столь короткое время. По этой причине я настаивал на том, чтобы выборы их преемников производились только ко времени
смены одних другими.
§
36. На обязанности консулов лежит, как мы сказали, созыв сената (в
том именно случае, когда некоторые из них, хотя бы немногие, сочтут
это нужным), доклад дел, подлежащих в нем решению, роспуск сената
и исполнение его декретов о государственных делах. Я теперь же в
нескольких словах изложу, какого порядка при этом следует
держаться, чтобы дела не затягивались из-за излишних
препирательств. Консулы совещаются относительно дел, подлежащих
докладу в сенате, и относительно необходимых мероприятий. В
случае единодушия они созывают сенат,
359
359
излагают дело и свое заключение о нем и, не дожидаясь мнения со
стороны кого-либо другого, приступают по порядку к собиранию
голосов. Но если голоса консулов разделятся, то в сенате излагается то
мнение относительно намеченного вопроса, которое собрало
большинство голосов консулов; если оно не получит одобрения
большинства сената и консулов, по, напротив, в большинстве будут
колеблющиеся и голосовавшие против — это будет видно, как мы
указывали, по шарам, — то излагается другое мнение, за которое
консулами было подано менее голосов, чем за первое, и т.д. Если ни
одно мнение не будет принято большинством сената, то сенат должен
быть распущен до следующего дня или же на какой-нибудь краткий
срок. Консулы между тем должны рассмотреть, нельзя ли изыскать
другие меры, которые вызовут к себе больше сочувствия. Если они не
находят таковых или же если те, которые они найдут, не будут
приняты большинством сената, то выслушивается мнение какого-либо
сенатора. Если оно не соберет большинства голосов сената, то снова
голосуется какое-либо другое мнение и производится подсчет не
только голосов, поданных за данное мнение, как это делалось до сих
пор, но и противников и колеблющихся. Мнение считается принятым, если число подавших голоса «за» окажется больше числа подавших
«против» и колеблющихся, напротив, — отвергнутым, если число
подавших голоса «против» окажется больше числа подавших голоса
«за» или колеблющихся. Но если относительно каждого мнения
большинство будет на стороне колеблющихся, а не на стороне
голосовавших «за» или «против», то в таком случае с сенатом
объединяется совет синдиков, которые голосуют вместе с сенаторами, причем производится подсчет только голосов, поданных «за» или
«против» и в расчет не принимаются голоса тех, которые [не
голосуют] ни «за» ни «против». Тот же порядок соблюдается
относительно дел, которые из сената поступают в верховный совет.
Вот и все о сенате.
§
37. Что касается суда, или трибунала, то он не может опираться на те
же основы, что суд в монархии (как я его описал в гл. VI, § 26 и след.).
Ведь не соответствует (согласно § 14 наст. гл.) основам аристократии
придавать какое-либо значение происхождению из того или другого
рода. Затем судьи, избранные из одних только патрициев, могли бы из
страха перед своими преемниками, тоже патри-
360
360
циями, не только воздержаться от решений, несправедливых по
отношению к кому-либо из них, но, пожалуй, и от назначения им
заслуженных наказаний; с другой стороны, относительно плебеев они
ни перед чем не остановятся, и ежедневно богатые будут их добычей.
Я знаю, что по этой причине многие одобряют решение генуэзцев, избирающих судей не из патрициев, а из иностранцев. Но так как я
рассматриваю вопрос совершенно абстрактно, то не могу не счесть
бессмысленным такое установление, при котором к толкованию
законов призываются иностранцы, а не патриции. Ведь что такое
судьи, как не истолкователи законов? Поэтому я убежден, что
генуэзцы в этом деле сообразовались скорее со своим национальным
характером, чем с природой аристократии. Но так как мы ставим
вопрос в общем виде, то наша задача будет состоять в отыскании
средств, наиболее согласующихся с этой формой правления.
§
38. В отношении числа судей это устройство не представляет
особенностей; но как в монархии, так и здесь прежде всего следует
наблюдать за тем, чтобы число судей было достаточно значительно
для того, чтобы у частного лица не было возможности их подкупить.
Ведь их обязанность состоит исключительно в ограждении частных
лиц от взаимных правонарушений; в разрешении, следовательно, споров между частными лицами, как между патрициями, так и
плебеями; в назначении наказаний провинившимся, не исключая
отсюда патрициев, синдиков и сенаторов, поскольку они нарушили
общеобязательные законы. Впрочем, споры, которые могут
возникнуть между городами, принадлежащими государству, разрешаются верховным советом.
§
39. Руководящая точка зрения для определения продолжительности
срока, на который избираются судьи, — одна и та же при любой
форме верховной власти. Ежегодно некоторая часть судей должна
оставлять свой пост, и хотя нет нужды в том, чтобы судьи были из
разных родов, однако необходимо, чтобы двое кровных
родственников не заседали одновременно; то же самое соблюдается и
в остальных советах, за исключением верховного, относительно
которого достаточно предусмотреть законом, чтобы во время выборов
никому не дозволялось ни предлагать своего родственника, ни
голосовать за него, если он был предложен кем-либо другим, и, кроме
того, чтобы двум
361
361
родственникам нельзя было вынимать жребий из урны при
назначении какого-нибудь государственного чиновника. Этого
достаточно, говорю я, для совета, состоящего из столь большого числа
членов и не пользующегося особыми" доходами. Государство не
потерпит от этого никакого ущерба, так что нелепо было бы
исключить законом из верховного совета всех родственников
патрициев (как мы сказали в § 14 наст. гл.). Нелепость этого ясна.
Ведь сами патриции не могут установить такого закона, не
отказываясь постольку абсолютно от своего права; поэтому стражами
этого закона окажутся не сами патриции, но плебеи, что прямо
противоречит сказанному нами в §§ 5 и 6 наст. гл. Главная же цель
того государственного закона, которым установлено, чтобы
отношение между числом патрициев и численностью народа было
всегда одним и тем же, состоит в сохранении права и мощи
патрициев, т.е. число их должно быть достаточно для управления
народом.
§
40. Судьи должны избираться верховным советом из самих
патрициев, т.е. (согласно § 17 наст. гл.) из самих законодателей.
Решения, вынесенные ими как в гражданских, так и в уголовных
делах, действительны, если вынесены в установленном порядке и
нелицеприятно. Относительно этого синдикам будет дозволено
законом расследовать, судить и постановлять приговор.
§
41. Доходы судей должны быть те же, что описанные нами в § 29
гл. VI. По каждому решению, именно вынесенному ими по
гражданскому делу, они получают с проигравшей стороны
определенную часть взыскиваемой суммы. В отношении же
уголовных дел все отличие сводится к тому, что конфискованные
судьями имущества и штрафы за маловажные проступки идут
исключительно в их пользу, однако под тем условием, чтобы никогда
им не было дозволено вымогать признание у кого-либо и в чем-либо
пыткой; и этого достаточно для того, чтобы они не были
несправедливы относительно плебеев и под влиянием страха не
делали поблажек патрициям. Ведь этот страх умеряется
корыстолюбием, прикрытым прекрасным именем правосудия. К тому
же число их значительно, голосование производится не открыто, но
шарами, так что тот, кто остался недоволен проигрышем дела, ничего
не может иметь против определенного лица. Далее, боязнь перед
синдиками воспрепятствует судьям выносить несправедливые или по
крайней мере нелепые решения и отвратить
362
362
каждого из них от злоумышленных поступков, не говоря уже о том, что в столь многочисленном собрании судей всегда найдется один или
двое, которых стесняются несправедливые. Наконец, если дозволить
плебеям апеллировать к синдикам, то в этом для них будет
заключаться достаточная гарантия; синдикам же, как я сказал, должно
быть дозволено законом расследовать, судить и постановлять
приговоры относительно всего касающегося судей. Синдики, без
сомнения, не будут в состоянии избегнуть ненависти многих
патрициев и, наоборот, всегда будут пользоваться расположением
простонародья, одобрение которого они, насколько это возможно для
них, постараются приобрести. Для этой цели они при случае не
преминут отменить решения, постановленные противозаконно, потребовать отчета от каждого судьи и наложить наказание на
несправедливых—ведь ничто не производит такого впечатления на
народ. Это впечатление отнюдь не ослабляется тем, что подобные
примеры не могут быть частыми; напротив, оно чрезвычайно
усиливается. Ибо, не говоря уже о том, что дурно устроено то
государство, где ежедневно приходится устрашать правонарушителей
(как мы показали в § 2 гл. V), должны быть особенно редкими, конечно, те примеры, которые наиболее приковывают к себе
общественное мнение.
§
42. Правители ( проконсулы), посылаемые в города или провинции, избираются из сенаторского сословия, так как на обязанности сената
лежит попечение об укреплениях городов, казне, ополчении и т.д.
Правители же, посылаемые в сколько-нибудь отдаленные места, не
могут посещать сенат; по этой причине из среды самого сената
призываются только те, которые предназначаются для городов, лежащих в пределах отечественной территории; правители же, которые должны быть посланы в более отдаленные местности, избираются из достигших возраста, определенного для поступления в
сенат. Если же всецело лишить права голоса соседние города, то, по
моему мнению, такая система не обеспечит в достаточной степени
мира для всего государства; разве только все эти города настолько
бессильны, что с ними можно открыто не считаться; последнего, конечно, нельзя допустить. Поэтому необходимо даровать соседним
городам гражданство и граждан, избранных из каждого города в
количестве двадцати, тридцати или сорока человек (это число должно
сообра-
363
363
зоваться с величиной города и может быть большим или меньшим), приписать к патрициям. Из них ежегодно трое, четверо или пятеро
должны избираться в сенат и один — пожизненно в синдики. Эти
сенаторы вместе с синдиком посылаются правителями в тот город, из
которого они были избраны.
§
43. Для каждого города судьи должны избираться из патрициев того
же города. Однако о них я не считаю нужным распространяться
подробнее, так как это не относится к основам данной формы
верховной власти.
§
44. Секретари каждого совета и другие, подобные им чиновники за
отсутствием у них права голоса должны избираться из простонародья.
Но так как они вследствие долговременных занятий делами
приобретают очень большую осведомленность в положении вещей, то
часто случается, что на их опытность полагаются больше, чем
следует, и что состояние всего государства более всего зависит от их
руководства; это обстоятельство было роковым для голландцев. Ибо с
этим сопряжено недовольство многих патрициев. И, конечно, мы не
можем сомневаться в том, что сонат, черпающий свою мудрость из
советов служителей, а не сенаторов, будет посещаться главным
образом косными членами и состояние такого государства будет
немногим лучше состояния монархии, управляемой малочисленными
царскими советниками (см. об этом §§ 5, 6 и 7 гл. VI). Но государство
более или менее подвержено этому злу, смотря по тому, дурно или
хорошо оно устроено. Ведь защита не имеющей достаточно прочных
основ свободы государства всегда сопряжена с опасностью.
Патриции, чтобы не подвергать себя ей, избирают из простонародья
(из плебеев) честолюбивых чиновников, которые после переворота
предаются как жертва смерти, чтобы умилостивить гнев
злоумышляющих на свободу. Там же, где основы свободы достаточно
прочны, сами патриции добиваются для себя славы быть ее
защитниками и стремятся к тому, чтобы мудрость в ведении дел
являлась исключительно результатом их собственной опытности. И то
и другое мы прежде всего имели в виду при установлении этой формы
верховной власти, устраняя простонародье как от совещаний, так и от
подачи голоса (см. §§ 3 и 4 наст. гл.); так что верховной
государственной властью должны обладать все патриции, авторитетом — синдики и сенат и, наконец, правом созыва сената и
доклада дел,
364
364
относящихся к общему благу, — консулы, избранные из самого
сената. Кроме того, если будет постановлено, чтобы секретарь сената
или других советов избирался на четыре или самое большее на пять
лет и чтобы на помощь ему на тот же срок назначался второй
секретарь, в течение этого срока разделяющий труд с первым, или
если в сенате будет не один секретарь, а несколько, которые
распределят между собою дела, то никогда не случится, что влияние
служителей получит какое бы то ни было значение.
§
45. Казначеи также избираются из простонародья. Они обязаны
давать отчет не только перед сенатом, но и перед синдиками.
§
46. В «Богословско-политическом трактате» мы достаточно подробно
рассмотрели вопросы религии. Кое-что, однако, о чем говорить там
было неуместно, мы опустили: все патриции должны принадлежать к
одной и той же религии (ее мы описали в названном трактате), т.е. к
самой простой и наиболее всеобщей 16. Ведь надобно прежде всего
предупредить разделение самих патрициев на секты и тяготение
одних к одному, а других — к другому культу и обусловленные
суеверием попытки с их стороны отнять у подданных свободу
высказывать свои мысли. Затем, хотя каждому следует предоставить
свободу высказывать свои мысли, однако большие собрания следует
запретить. Поэтому последователям другой религии следует, конечно, разрешить сооружение стольких храмов, сколько им угодно, однако
храмы должны быть какого-нибудь определенного небольшого
размера и находиться на известном расстоянии друг от друга. Очень
важно, чтобы храмы, посвященные отечественной религии, были
обширны и благолепны; в особенности же чтобы к отправлению
культа допускались одни только патриции или сенаторы (так что
одним только патрициям дозволено крестить, венчать, рукополагать) и чтобы вообще они, как священнослужители, считались защитниками
и истолкователями отечественной религии. Для произнесения же
проповедей и для заведования церковной казной и каждодневными
делами церкви сам сенат избирает из плебеев несколько человек, которые являются как бы заместителями сената и которые обязаны
перед ним отчитываться.
§
47. Вот и все, что касается основ этой формы верховной власти. То, что я собираюсь добавить к этому с принципиальной стороны, не
столь существенно, однако имеет
365
365
большое значение. Патриции должны носить особые отличительные
платья или одеяния; в приветствиях, обращаемых к ним, они
титулуются особым образом; каждый плебей должен уступать им
место. Если же какой-нибудь патриций случайно, без всякой вины с
своей стороны потеряет свое имущество и сможет представить этому
веские доказательства, то за счет государства оно восстанавливается в
прежнем состоянии. Если же, наоборот, окажется, что он растратил
свое имущество мотовством, роскошеством, игрой и беспутством и
т.д. или же что он безусловно больше задолжал, чем в состоянии
заплатить, то он должен лишиться своего сана и считаться
недостойным всяких почестей и службы. Ведь тот, кто не смог
управиться со своими частными делами, тем менее сможет быть
полезным для государственных.
§
48. Кого закон принуждает дать клятву, тот скорее будет опасаться
клятвопреступления, если ему будет приказано поклясться не именем
бога, но благом отечества, свободой и верховным советом. Ведь тот, кто клянется богом, представляет в залог частное благо, которое
оценивает он сам; тот же, кто, давая клятву, представляет в залог
свободу и благо отечества, клянется благом всех, оценка которого от
него не зависит. В случае лживости клятвы он сам объявляет себя
врагом отечества.
§
49. Академии, основываемые на государственный счет, учреждаются
не столько для развития умов, сколько для их обуздания. Напротив, в
свободном государстве науки и искусства достигают высшего
развития тогда, когда каждому желающему разрешается обучать
публично, причем расходы и риск потери репутации — уже его
личное дело. Однако этот вопрос и другие, связанные с ним, я
рассмотрю в другом месте. Здесь моя задача заключалась только в
том, чтобы изложить все, что относится исключительно к
аристократической форме власти.
ГЛАВА IX
ОБ АРИСТОКРАТИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
§
1. До сих пор мы рассматривали государство, которое зовется по
одному только городу — столице всего государства. Теперь же пора
обратиться к государству, верховная власть в котором сосредоточена
во многих го-
366
366
родах и которому я отдаю предпочтение перед предшествующим. Но, чтобы выяснить отличительные черты и преимущества каждого из
них, рассмотрим бегло основы предшествующей формы верховной
власти, затем отбросим непригодные для настоящей, вместо них
заложим те, на которых она должна утвердиться.
§
2. Итак, города, являющиеся полноправными членами государства, должны быть построены и укреплены так, чтобы, с одной стороны, ни
один из них не мог существовать без остальных, а, с другой стороны, чтобы и отпадение каждого города от остальных было сопряжено с
большим вредом для всего государства. Таким образом, они всегда
останутся в единстве. Те же города, которые не в состоянии ни
сохранить себя, ни внушить страх остальным, очевидно, не
своенравны, но безусловно подчинены праву этих последних.
§
3. Все, что мы изложили в §§ 9 и 10 пред. гл., выводится из общей
природы аристократии (отношение числа патрициев к численности
народа, возраст и другие условия их избрания), так что, будет ли
власть сосредоточена в одном городе или во многих, — в этом нет
между ними различия. С верховным же советом дело обстоит иначе.
Ведь если какой-нибудь город описываемого государства будет
местом его собраний, то в действительности он сделается столицей
всего государства. Поэтому следует или соблюдать очередь между
ними, или отвести этому совету такое место, которое не делает
полноправным членом государства и принадлежит всем в одинаковой
мере. Однако как то, так и другое настолько же легко на словах, насколько трудно на деле: ведь стольким тысячам людей придется
часто покидать города или собираться каждый раз в различных
местах.
§
4. Чтобы правильно вывести из природы и строя этой формы
верховной власти то, как следует поступить в этом случае и каким
образом следует установить советы такого государства, необходимо
принять в соображение, что каждый город имеет права настолько
больше, чем частное лицо, насколько он превосходит мощью частное
лицо (согласно § 4 гл. II) и, следовательно, каждый город этого
государства (см. § 2 наст. гл.) в черте городских стен или в пределах
своей юрисдикции имеет столько права, сколько мощи; затем, что все
города связаны между собою и объединены не как члены союза, но
как составные
367
367
части единого государства; причем каждый город имеет в государстве
настолько больше права, чем остальные, насколько он
могущественнее остальных. Ведь было бы нелепо искать равенства
среди неравных. Граждане же считаются равными, как они того и
заслуживают, так как мощь каждого из них по сравнению с мощью
всего государства — ничтожна; мощь же каждого города составляет
большую часть мощи самого государства, и, чем больше сам город, тем больше эта часть. Поэтому нельзя считать все города равными. Но
как мощь каждого города, так и его право должны быть оцениваемы
по его величине. Узами же, которые должны соединить их в единое
государство, будут прежде всего сенат и суд (согласно § 1 гл. IV). Но, каким образом соединить этими узами все города так, чтобы все-таки
каждый город остался, насколько возможно, своеправным, я вкратце
покажу здесь.
§
5. Я допускаю, что патриции каждого города — число их сообразно с
величиной города (согласно § 3 наст. гл.) может быть большим или
меньшим — обладают в своем городе высшим правом, в верховном
совете своего города имеют верховную власть укреплять город и
расширять его укрепления, налагать подати, издавать и отменять
законы и делать решительно псе, что, по их мнению, является
необходимым для сохранения и процветания их города. Для ведения
же общегосударственных дел избирается сенат всецело на тех же
основаниях, на которые мы указали в предшествующей главе; таким
образом, все различие между этим сенатом и тем сведется к тому, что
первому предоставлено еще разрешать споры, могущие возникнуть
между городами. Ведь в государстве, ни один город которого не
является столицей, это не может входить в компетенцию верховного
совета, как в вышеописанном (см. § 38 пред. гл.).
§
6. В этом государстве верховный совет созывается только в том
случае, когда на очереди стоит реформа самого государства, или в
случае какого-либо затруднения, разрешение которого сенаторы
считают для себя непосильным; таким образом, все патриции
созываются на совет очень редко. Ведь главная обязанность
верховного совета (как мы сказали в § 17 пред. гл.) состоит в издании
и отмене законов и в избрании государственных чиновников.
Однажды же установленные законы или общее право всего
государства не должны изменяться. Но если время
368
368
или обстоятельства потребуют установления какого-нибудь нового
закона или же изменения существующего, то вопрос об этом может
быть поднят прежде всего в сенате. После того как в сенате будет
достигнуто единодушие по этому вопросу, он сам отправляет в города
послов, которые должны оповестить патрициев каждого города о его
заключении; и если большинство городов присоединится к
заключению сената, то оно считается принятым, в противном же
случае — отвергнутым. Того же порядка можно держаться при
избрании предводителей войска и послов, отправляемых в
иностранные государства, равно как при решениях относительно
объявления войны и принятия условий мира. Но так как каждый город
(согласно изложенному в § 4 наст. гл.) должен, насколько возможно, оставаться своеправным и иметь в государстве настолько больше
права, насколько он превосходит мощью остальные города, то при
избрании остальных государственных чиновников является
необходимым следующий порядок. Сенаторы именно избираются из
патрициев каждого города, т.е. патриции какого-нибудь одного города
избирают в своем совете определенное число сенаторов из сограждан-
патрициев; это число к числу патрициев того же города относится (см.
§ 30 пред. гл.) как один к двенадцати; избранные получают затем
указания, к какому отделу — первому, второму, третьему и т.д. — они
должны принадлежать; таким же путем патриции остальных городов
избирают сенаторов (в большем или меньшем количестве — это
зависит от их общего числа) и распределяют их по отделам, на
которые, как мы сказали, должен разделяться сенат (см. об этом § 34
пред. гл.). Этим будет достигнуто то, что в каждом отделе сената от
каждого города будет присутствовать известное число сенаторов, которое сообразно величине самого города будет больше или меньше.
Председатели же и вице-председатели отделов, число которых меньше
числа городов, избираются сенатом по жребию из избранных
консулами. Кроме того, и при избрании верховных судей государства
сохраняется тот же порядок: патриции каждого города избирают из
своих коллег судей, число которых будет больше или меньше
сообразно с числом самих патрициев. Вследствие этого каждый город
при избрании чиновников будет, насколько возможно, своенравен и
как в сенате, так и в суде, будет иметь настолько больше права, насколько он превосходит мощью
369
369
остальные города (при том именно предположении, что при
рассмотрении государственных дел и при разрешении спорных
вопросов сенат и суд всецело будут придерживаться порядка, описанного в §§ 33 и 34 пред. гл.).
§
7. Затем предводители когорт и военные трибуны избираются также
из патрициев. Ведь так как справедливо, что каждый город сообразно
своей величине обязан поставлять для общей безопасности всего
государства определенное число солдат, точно так же справедливо, чтобы патрициям каждого города было дозволено избирать сообразно
числу легионов, которые они обязаны содержать, столько трибунов, вождей, знаменосцев и т.д., сколько требуется для руководства той
воинской частью, которую они доставляют государству.
§
8. Сенат не облагает подданных податями, но для несения издержек, нужных, согласно сенатскому декрету, для ведения государственных
дел, привлекаются самим сенатом не отдельные подданные, но города
по их имущественному положению, так что каждый город сообразно
своей величине должен нести большую или меньшую часть издержек; эту часть патриции взыскивают со своих горожан каким им угодно
путем: или сообразуясь именно с их имуществом, или, что гораздо
справедливее, взимая с них пошлины.
§ 9. Хотя и не все города этого государства являются приморскими
и сенаторы призываются не из одних только приморских городов, однако им можно определить те же доходы, о которых мы говорили в
§ 31 пред. гл. Для этой цели могут быть, смотря по общему
положению государства, изысканы средства, которые послужат для
еще более тесного сплочения городов между собою. Остальное же, что относится к сенату и суду и вообще к государству в его
совокупности (см. пред. гл.), применимо также и здесь. Итак, мы
видим, что в государстве, власть над которым принадлежит многим
городам, не является необходимым назначать определенный срок или
место для созыва верховного совета. Сенату и суду отводится место в
селении или городе, которые не обладают правом голоса. Однако
возвращусь к тому, что касается отдельных городов.
§
10. Верховный совет каждого отдельного города при избрании
городских и государственных чиновников, а также при решении дел
должен держаться порядка, опи-
370
370
санного мною в §§ 27 и 36 пред. гл. Ведь в обоих случаях условия
равны. Далее, совет синдиков должен быть подчинен этому
городскому совету, так как он относится к нему так же, как совет
синдиков, описанный в пред. гл., — к совету всего государства, и в
пределах юрисдикции города несет те же обязанности и пользуется
теми же доходами. Если город — а следовательно, и число патрициев
— будет настолько мал, что сможет избрать только одного или двух
синдиков, которые не составят совета, то верховный городской совет
назначает синдикам для разбора дел судей по мере надобности или же
спорный вопрос поступает на рассмотрение верховного совета
синдиков. Ведь из каждого города несколько синдиков отправляются
также в место заседаний сената для наблюдения за тем, чтобы законы
совокупного государства неукоснительно соблюдались; они заседают
в сенате без права голоса.
§
11. Консулы городов также избираются из патрициев того же города; они образуют как бы сенат своего города. Я не могу, однако, определить их числа, да и не считаю это необходимым, так как
наиболее важные дела города решаются его верховным советом, те же
дела, которые относятся ко всему государству, — великим сенатом.
Впрочем, если число консулов будет незначительно, то необходимо, чтобы они в своем совете подавали голоса открыто, а не шарами, как в
больших советах. Ведь в небольших советах, где происходит закрытое
голосование, тот, кто сколько-нибудь хитрее других, легко может
узнать, кто какой голос подал, и всячески обманывать менее
осмотрительных.
§
12. Кроме того, в каждом городе судьи назначается его верховным
советом. На их решение, однако, можно апеллировать верховному
государственному суду, за исключением тех случаев, когда
подсудимый явно изобличен и должник признает свой долг. Но нет
нужды рассматривать это подробнее.
§
13. Итак, остается сказать несколько слов о несвоеправных городах.
Если они расположены на государственной территории и
национальность и язык их жителей одни и те же, то они необходимо
должны рассматриваться, подобно селениям, как части соседних
городов; так что каждый из них должен быть подчинен управлению
того или другого своеправного города. Основание этого заклю-
371
371
чается в том, что патриции избираются не верховным советом этого
государства, но верховным советом каждого города, причем число их
в каждом городе, соразмерное числу жителей в пределах его
юрисдикции, может быть большим или меньшим (см. § 5 наст. гл.).
Поэтому является необходимым, чтобы население несвоеправного
города вместе с населением своенравного составляло одну податную
единицу и зависело от его управления. На города же, захваченные по
праву войны и примкнувшие к государству, следует смотреть как на
союзников государства и привязывать к себе благодеяниями; или же
вывести туда колонии, являющиеся полноправными членами
государства, туземное же население выселяется в другое место или
совсем уничтожается.
§
14. Вот и все, относящееся к основам этого государства. Положение
его лучше, чем [положение] государства, получающего свое название
по имени одного только города. Это я заключаю из того именно, что
патриции каждого города по свойственному человеку влечению будут
стремиться удержать и, если возможно, расширить свое право как в
городе, так и в сенате; поэтому по мере своих сил они будут
стремиться привлечь на свою сторону народ и, следовательно, править
государством более при помощи благодеяний, чем страха, и увеличить
свою численность; ведь, чем значительнее их число, тем больше
сенаторов (согласно § 6 наст. гл.) они выберут из своего совета и, следовательно (согласно тому же § той же гл.), тем больше права они
получат в государстве. И нет беды в том, что города, если каждый из
них заботится только о себе и соперничает с остальными, чаще
бывают между собою в разладе и в препирательствах теряют время.
Пока римляне совещались, Сагунт погиб 17 — пусть так; но, с другой
стороны, гибнут свобода и общее благо, когда все решает прихоть
небольшого числа лиц. Ведь люди не наделены такой
сообразительностью, чтобы сразу охватить все стороны дела, их ум
изощряется в совещаниях и спорах и, испытывая все средства, находит, наконец, искомые, которые все одобряют и о которых никто
раньше не думал. Если кто возразит, что Голландское государство
недолго просуществовало без графа или его заместителя, то ему
можно ответить, что голландцы для утверждения свободы считали
достаточным отделаться от графа и обезглавить государство и не
подумали о реформе последнего. Напро-
372
372
тив, все государственные органы они оставили в прежнем положении; так что Голландия осталась графством без графа, как бы телом без
головы; сама же форма государственной власти — без наименования.
Поэтому менее всего удивительно, что большинство подданных не
знало, в чьих руках находится верховная государственная власть. Но
даже если бы в этом отношении дело обстояло иначе, то все-таки
действительные обладатели власти были слишком немногочисленны
для того, чтобы править народом и сломить могущественных
противников. В результате последние часто имели возможность
безнаказанно злоумышлять против них и, наконец, низложить. Итак, внезапное падение этой республики произошло не оттого, что время
бесполезно проходило в препирательствах, но вследствие
неопределенного состояния верховной государственной власти и
немногочисленности правителей.
§
15. Кроме того, такая форма аристократии, при которой власть
сосредоточена во многих городах, заслуживает перед другою
предпочтения, ибо здесь в противоположность той не нужно
принимать мер против того, как бы внезапное нападение не погубило
всего верховного совета, так как для его созыва не назначено ни срока, ни места (см. § 9 наст. гл.). Далее, в этом государстве могущественные
граждане не так опасны. Ведь там, где многие города пользуются
свободой, для того, кто намеревается проложить себе путь к власти, недостаточно завладеть одним только городом, чтобы тем самым
получить власть над остальными. Наконец, свобода в этом
государстве — достояние большего числа лиц. Ведь там, где правит
один только город, благо остальных принимается в расчет лишь
постольку, поскольку это выгодно правящему городу.
ГЛАВА X
ОБ АРИСТОКРАТИИ. ОКОНЧАНИЕ
§
1. Мы выяснили и изложили основы обеих форм аристократии. Нам
осталось еще рассмотреть, могут ли они сами быть причиной своей
гибели или превращения в другую форму. Главнейшую причину
гибели этих государств указал проницательнейший Флорентинец 18 в
первом комментарии к Титу Ливию. По его словам, «в госу-
373
373
дарстве, как и в человеческом теле, ежедневно накопляется нечто, требующее время от времени лечения». Поэтому, говорит он, необходимо, чтобы иногда наступало какое-нибудь событие, вследствие которого государство возвращалось бы к своему началу, на котором оно было установлено. Если это событие не наступает в
надлежащее время, то пороки разрастаются до такой степени, что
уничтожить их можно только вместе с самим государством. Это
событие, продолжает он, может наступить или в результате случая, или благодаря предусмотрительности и благоразумию законов или
мужу выдающейся доблести. И мы не можем сомневаться в том, что
это — дело величайшей важности и что там, где против этого
недостатка не будет принято предупредительных мер, государство
сможет уцелеть только благодаря счастливой судьбе, а не
внутреннему достоинству и, наоборот, там, где против этого зла будет
применено удачное средство, государство, как мы вскоре покажем с
большей ясностью, может пасть только в результате неизбежности, рока, а не вследствие своей испорченности. Первым пришедшим на
ум средством против этого зла было избрание через каждые пять лет
на месячный или двухмесячный срок верховного диктатора, обладавшего правом производить расследование, судить и
постановлять приговоры относительно действий сенаторов и каждого
чиновника и, следовательно, возвращать государство к его началу. Но
тот, кто хочет избежать недостатков в государстве, должен применять
средства, которые согласуются с природой государства и могут быть
выведены из его основ, а иначе он, желая избежать Харибды, попадет
в Сциллу. Несомненно, что все, как правящие, так и управляемые, должны быть сдерживаемы страхом наказания, направленного на
личность или имущество, дабы не было дозволено совершать
преступлений безнаказанно или с выгодой для себя; но, с другой
стороны, несомненно также, что если бы этот страх был одним и тем
же для дурных и для добрых людей, то государство с необходимостью
оказалось бы на краю гибели. Но диктаторская власть, будучи
абсолютной, не может не внушать трепета всем, в особенности если
диктатор согласно выставленному выше требованию избирается в
установленный срок, ибо тогда каждый честолюбец будет всеми
силами добиваться этой должности; и несомненно, что в мирное время
богатство уважается больше, чем доблесть, так что
374
374
легче всего достичь почетной должности какому-нибудь выскочке. И, быть может, по этой причине римляне обыкновенно назначали
диктатора не в установленное время, но под давлением неотложной
необходимости. И тем не менее «толки о диктаторе, — я ссылаюсь на
слова Цицерона 19, — вызвали недовольство у добродетельных
граждан». Действительно, так как диктаторская власть по характеру
своему абсолютно подобна царской, то изменение формы верховной
власти в монархическую даже на самое короткое время невозможно
без большой опасности для республики. К тому же, если для избрания
диктатора не будет назначено определенного времени, то не будет
постоянного промежутка между диктатурами — соблюдать же его, как я отметил, — чрезвычайно важно, — и, таким образом, все
учреждение будет настолько шатко, что легко сведется на нет. Итак, если только эта диктаторская власть не вечна и не прочна — а
таковую нельзя, сохраняя форму государства, перенести на одного
человека, — то она сама и вместе с тем благо и сохранение
государства будут висеть на волоске.
§
2. Наоборот, мы отнюдь не можем (согласно § 3 гл. VI) сомневаться в
том, что если бы было возможно, чтобы меч диктатора и при
сохранении формы верховной власти всегда был наготове и был бы
страшен только дурным, то потоки никогда не могли бы разрастись до
того, что их нельзя было бы уже искоренить или исправить. Для
осуществления всех этих условий следует, как мы сказали, верховному совету подчинить совет синдиков, дабы диктаторский меч
был всегда наготове и находился не у физического, а у юридического
лица, члены которого по своей многочисленности не могут внести
рознь в государство (см. §§ 1 и 2 гл. VIII) или сойтись на каком-
нибудь преступном плане. Синдикам, кроме того, закрыт доступ к
занятию остальных государственных должностей, они не платят
жалованья ополчению, и, наконец, возраст их такой, что они
предпочтут настоящее и верное новому и опасному. Вследствие этого
государству нечего их опасаться, и они смогут быть и действительно
будут страшны не хорошим, а только дурным. Ведь, чем менее у них
сил для совершения преступления, тем более у них мощи для
обуздания зла. Ведь, не говоря уже о том, что всякое начинание они
могут подавить в зародыше (так как их коллегия постоянна), число их, кроме того, достаточно велико
375
375
для того, чтобы они отважились без страха перед ненавистью
обвинить и осадить каждого власть имущего; в особенности потому, что голосование производится шарами и решение произносится от
имени всего совета.
§
3. В Риме народные трибуны были постоянным учреждением; однако
они ничего не могли поделать с людьми вроде Сципиона. Кроме того, они были обязаны самому сенату докладывать о тех мерах, которые, по их мнению, являлись благотворными. Сенат же часто проводил их
таким образом, что плебс дарил свое расположение тому, кого сами
сенаторы менее всего опасались. К тому же, направленный против
патрициев, авторитет трибунов опирался на расположение плебса, и
всякий раз, как они созывали плебс, это было похоже скорее на
призыв к восстанию, чем на созыв совета. Подобные недостатки не
будут, конечно, иметь места в государстве, описанном в пред. гл.
§
4. Тем не менее синдики своим авторитетом могут только обеспечить
сохранение формы верховной власти и, следовательно, воспрепятствовать нарушениям законов и обогащению в результате
преступлений; но никоим образом они не будут в состоянии добиться
того, чтобы не разрастались пороки, которые не могут быть
воспрещены законом, каковы те, в которые впадают люди под
влиянием праздности и следствием которых нередко бывает гибель
государства. Ведь люди, освободившись в мирное время от страха, мало-помалу из диких варваров становятся цивилизованными, или
гуманными, а затем—изнеженными и косными; и каждый старается
превзойти других не доблестью, но блеском и роскошью. Так
начинают они презирать отечественные нравы и перенимать чужие, т.е. рабствовать.
§
6. Для избежания этих зол многие пытались издавать законы против
роскоши, но без успеха. Ведь со всеми законами, нарушение которых
не составляет несправедливости по отношению к другим лицам, серьезно никто не считается; они не только не обуздывают людских
желаний и прихотей, но, наоборот, возбуждают их. Ведь мы всегда
стремимся к запрещенному и желаем недозволенного. И у праздных
людей всегда хватит сметки для обхода законов о предметах, которые
не поддаются безусловному запрещению, как-то: о пирах, играх, украшениях и т.п., в которых дурно только излишество, оцениваемое
по состоянию каждого и поэтому неопределимое всеобщим законом.
376
376
§
6. Итак, отсюда я прихожу к заключению, что с имеющимися здесь в
виду общими пороками, свойственными мирному времени, следует
бороться не прямо, но косвенно, закладывая именно такие основы
государства, благодаря которым большинство, конечно, не будет
стараться жить разумно (ибо это невозможно), но будет руководиться
аффектами, более полезными для государства. Поэтому прежде всего
нужно стремиться к тому, чтобы богатые сделались если не
бережливыми, то по крайней мере корыстолюбивыми. Ведь
несомненно, что если этот аффект корыстолюбия —
общераспространенный и постоянный — получит поддержку в
честолюбии, то большинство приложит все старания для не
сопряженного с бесславием увеличения своего состояния, чтобы тем
добиться почестей и избегнуть величайшего позора.
§
7. И если мы вникнем в основы обеих аристократических форм
правления, изложенные мною в двух предшествующих главах, то
увидим, что к этому-то именно они и приводят. Ведь число правящих
в обеих настолько велико, что большинству богатых широко открыт
доступ к управлению и к приобретению почетных государственных
должностей. Если, далее (как мы сказали в § 47 гл. VIII), будет издано
постановление об исключении из патрицианского сословия тех
патрициев, долги которых превышают их имущество, и о
восстановлении в прежнем состоянии тех, которые потеряли свое
имущество вследствие несчастного стечения обстоятельств, то все, без
сомнения, постараются сохранить по возможности свое достояние.
Если же еще установить законом, чтобы патрициям и кандидатам на
почетные должности была присвоена отличительная одежда, то никто
из них не будет предпочитать чужеземные нравы отечественным (об
этом см. §§ 25 и 47 гл. VIII). Помимо всего этого, в каждом
государстве могут быть изысканы меры, отвечающие природе места и
народному характеру; прежде же всего следует заботиться о том, чтобы подданные в большинстве случаев исполняли свой долг
добровольно, а не по принуждению закона.
§
8. Ведь государство, вся задача которого сводится к тому, чтобы
руководить людьми страхом, скорее будет лишено пороков, чем
изобиловать добродетелью. Но руководство людьми должно быть
таким, чтобы им казалось, что ими не руководят, но что они живут по
своему усмотрению и свободному решению; поэтому только любовь
377
377
к свободе, стремление приумножить свое состояние и надежда на
приобретение почетных государственных должностей должны
сдерживать их. Впрочем, статуи, триумфы и другие средства к
поощрению добродетели свидетельствуют скорее о рабстве, чем о
свободе. Рабам, а не свободным назначаются награды за добродетель.
Я знаю, правда, что все это оказывает наиболее сильное воздействие
на людей, стимулируя деятельность; но насколько верно, что
указанные отличия вначале достаются великим людям, настолько же
правильно, что впоследствии, с ростом зависти, их получают, к
великому недовольству всех хороших граждан, люди недостойные и
кичащиеся величиной своего богатства. Далее, те, которые хвастаются
триумфами и изображениями предков, будут считать себя
оскорбленными, если им не будет отдано предпочтение перед всеми
другими. Наконец, бесспорно то — остальное я обхожу молчанием, —
что равенству, с упразднением которого необходимо гибнет и общая
свобода, наносится смертельный удар, как только мужу, известному
своей доблестью, государственным законом будут назначены особые
почести.
§
9. Изложив это, рассмотрим теперь, могут ли такие государства быть
повинны в своей гибели. Действительно, если и может какое-либо
государство быть вечным, то таковым с необходимостью будет
[только] то, законы которого, однажды правильно установленные, остаются ненарушимыми. Ведь законы (права — jura) — это душа
государства. Поэтому, если они сохраняются, то с необходимостью
сохраняется и государство. Законы же остаются незыблемыми только
в том случае, когда они защищаются и разумом, и общим для людей
аффектом; иначе, т.е. если законы опираются исключительно на
разум, они, конечно, бессильны и легко нарушаются. Но мы показали, что основные законы обеих форм аристократической власти
согласуются с разумом и общим для людей аффектом; мы можем, следовательно, утверждать, что именно эти государства необходимо
будут вечными— если вообще возможны таковые — или что они
могут погибнуть лишь в силу неизбежного рока, а не собственной
вины.
§ 10. Нам все еще может быть сделано такое возражение: пусть
даже изложенные в пред. гл. законы защищаются разумом и общим
для людей аффектом, тем не менее они могут иногда оказаться
бессильными. Ведь нет аффек-
378
378
та, который не побеждался бы иногда другим, противоположным, более сильным аффектом; ведь мы часто видим, что страх смерти
побеждается желанием чужой вещи. Обратившихся в бегство из
страха перед неприятелем не может остановить никакой другой страх, но, чтобы избежать вражеского меча, они бросаются в реки или
устремляются в огонь. Итак, как бы ни было правильно организовано
государство, как бы ни были хорошо установлены законы, однако в
момент величайшей опасности для государства, когда всех, как это
обыкновенно бывает, охватывает какой-то панический страх, все, не
думая ни о будущем, ни о законах, считают приемлемым только то, что внушает им страх; они обращают тогда свои взоры на человека, прославленного победами, освобождают его от действия законов, сами удлиняют (это самое худшее) срок его властвования и доверяют
его совести все государство; и несомненно, что именно это было
причиной гибели Римской империи. Чтобы ответить на такое
возражение, я говорю, во-первых, что в правильно организованном
государстве подобный страх возникает только по основательной
причине. Вследствие чего этот страх и вызванное им замешательство
нельзя приписать такой причине, которую могло бы устранить
человеческое благоразумие. Затем, следует заметить, что в той
республике, какую мы описали в предшествующих главах, не может
случиться того (согласно §§ 9 и 25 гл. VIII), чтобы слава о доблестях
какого-либо гражданина обратила на него взоры всех; он необходимо
будет иметь соперников, которые также имеют много приверженцев.
-Поэтому, если в государстве страх и произведет какое-нибудь
замешательство, то все-таки никто не сможет нарушить законы и
вопреки праву объявить кого-либо военным диктатором, без того
чтобы немедленно другие претенденты не начали спор, спор, для
прекращения которого придется волей-неволей обратиться к
установленному и всеми признанному праву и уладить дела
государства согласно существующим законам. Итак, я безусловно
могу утверждать, что как государство, власть над которым находится
у одного города, так в особенности государство, власть над которым
находится у многих городов, — вечны; они не могут ни распасться, ни
изменить свою форму по какой-либо внутренней причине.
379
379
ГЛАВА XI
О ДЕМОКРАТИИ
§
1. Наконец, мы переходим к третьей и всецело абсолютной форме
верховной власти, которую мы назовем демократической. Ее отличие
от аристократической состоит, как мы сказали, главным образом в
том, что в последней от одной только воли и свободного выбора
верховного совета зависит, кого сделать патрицием; так что никто не
имеет наследственного права голоса и права поступления на
государственные службы, как это имеет место при той форме
верховной власти, которую мы теперь описываем. Ведь все те, которые родились от граждан или в пределах отечественной
территории или оказали важные услуги государству, или те, которым
закон по другим причинам предписывает пожаловать право
гражданства, — все они на законном основании притязают на право
голоса в верховном совете и право поступления на государственные
службы; и отказ им в этом возможен только вследствие [совершения]
преступления или бесчестия.
§
2. Итак, если будет установлено законом, что только более пожилые, достигшие определенного возраста, или только первенцы, когда им
позволит возраст, или вносящие государству определенную сумму
обладали бы правом голоса в верховном совете и правом заниматься
государственными делами, то, хотя при этом и может случиться, что
верховный совет будет состоять из меньшего числа граждан, чем
верховный совет аристократии, о котором мы говорили выше, тем не
менее такие государства следует назвать демократическими, так как
их граждане, предназначаемые для управления государством, не
избираются, как лучшие, верховным советом, но определяются на это
самим законом. И хотя при такой системе подобные государства —
где именно к правлению предназначаются не лучшие, но
разбогатевшие благодаря счастливому стечению обстоятельств или
первенцы, — по-видимому, уступают аристократии, однако если
принять во внимание практику или общие свойства людей, то
окажется, что дело сводится к тому же. Ведь патриции всегда считают
лучшими богатых [из числа] или своих ближних родственников, или
друзей. И, конечно, если бы с патрициями дело обстояло так, что они
избирали бы коллег патрициев, будучи свободны от всякого аффекта и
руководимы одним
380
380
только стремлением к общему благу, то ни одна форма верховной
власти не выдержала бы сравнения с аристократической. Но, как в
более чем достаточной мере показал опыт, положение вещей
совершенно обратно этому, в особенности в олигархиях, где за
отсутствием соперников воля патрициев менее всего связана законом.
Ведь здесь патриции намеренно заграждают лучшим доступ в совет и
ищут себе таких товарищей по совету, которые ловят каждое их
слово; так что дела подобного государства обстоят гораздо хуже, ибо
избрание патрициев зависит от абсолютно свободной или не
связанной никаким законом воли отдельных лиц. Однако возвращусь
к начатому.
§
3. Из сказанного в пред. § ясно, что мы можем различать несколько
видов демократии. Однако я не считаю нужным говорить о каждом из
них, но [скажу] только о том, где все без исключения подчинены
одним только отечественным законам и, кроме того, своеправны (sui juris) и живут безупречно, обладают правом голоса в верховном совете
и правом поступления на государственную службу. Я подчеркиваю: которые подчинены одним только отечественным законам, чтобы
устранить иностранцев, считающихся подданными другого
государства. Я добавил еще: кроме того, что они подчинены одним
только законам государства, они в остальном должны быть
своенравными, чтобы устранить женщин и рабов, стоящих под
властью мужей и господ, а также детей и несовершеннолетних, пока
они стоят под властью родителей и опекунов. Я сказал, наконец: живут безупречно, чтобы прежде всего устранить тех, которые
вследствие преступления или какого-нибудь позорного образа жизни
подверглись бесчестию.
§
4. Кто-нибудь, пожалуй, спросит, стоят ли женщины под властью
мужчин по природе или в силу положительного закона? Ведь если это
так только в силу закона, то для нас нет, следовательно, никаких
оснований устранять женщин от управления. Но если мы обратимся за
поучением к опыту, то увидим, что такое положение вещей
объясняется слабостью самих женщин. Ибо невиданное еще дело, чтобы мужчины и женщины правили вместе, но всюду на земле, где
только есть мужчины и женщины, мужчины правят, а женщины
находятся в подчинении, и, таким образом, оба пола живут в согласии.
Но, напротив, амазонки, которые, по преданию, когда-то правили, не
терпели мужчин в своей стране, но растили только девочек; рожденных
381
381
же ими мальчиков убивали. Ведь если бы женщины по природе были
равны мужчинам и по силе души, и по силе ума, в которых главным
образом заключается человеческая мощь, а следовательно, и право, то, конечно, среди столь различных наций нашлись бы и такие, где оба
пола управляли на равном основании, и другие, где мужчины
управлялись бы женщинами и получали бы такое воспитание, что
отставали бы от них в умственных качествах. Но так как этого нигде
нет, то можно вполне утверждать, что женщины по природе не имеют
одинакового с мужчинами права; они, напротив, с необходимостью
уступают мужчинам и поэтому невозможно, чтобы оба пола
управляли на равном основании, и еще менее, чтобы мужчины
управлялись женщинами. Если, кроме того, мы обратим внимание на
человеческие аффекты, на то именно, что мужчины по большей части
любят женщин только вследствие аффекта похоти, а дарования их и
рассудительность ценят лишь постольку, поскольку они отличаются
красотою, и, кроме того, что мужчины не терпят, чтобы любимые ими
женщины в чем-нибудь проявляли благосклонность к другим, и т.п., то легко убедимся, что равное участие мужчин и женщин в
управлении сопряжено с большим ущербом для мира. Но довольно об
этом.
Здесь рукопись обрывается.
382
ПИСЬМА
НЕКОТОРЫХ УЧЕНЫХ МУЖЕЙ К Б.Д.С.
И ЕГО
ОТВЕТЫ,
ПРОЛИВАЮЩИЕ НЕ МАЛО СВЕТА
НА ДРУГИЕ ЕГО СОЧИНЕНИЯ1
ПЕРЕВОД С ЛАТИНСКОГО И ГОЛЛАНДСКОГО
В.К. Брушлинского
383
EPISTOLAE
DOCTORUM QUORUNDAM VIRORUM
Ad B. d. S.
ET AUCORIS
RESPONSIONES;
AD ALIORUM EJUS OPERUM ELUCIDATIONEM NON PARUM
FACIENTES
384
ПИСЬМО l 2
Славнейшему мужу Б. д. С.
от Генриха Ольденбурга 3.
С
лавнейший господин, уважаемый друг!
М
не так тяжела была недавняя разлука с Вами после краткого
пребывания в Вашем мирном уединении в Рейнсбурге, что я тотчас по
возвращении в Англию спешу хоть письменно возобновить наши
сношения. Основательная ученость в соединении с учтивостью и
благородством характера (природа и трудолюбие самым щедрым
образом наделили Вас всем этим) сами по себе до того
привлекательны, что возбуждают любовь во всяком прямодушном и
либерально воспитанном человеке.
И
так, превосходнейший муж, дадим друг другу руки для непритворной
дружбы и будем осуществлять ее на деле в различных совместных
занятиях и взаимных услугах. Располагайте, как своей
собственностью, всем, что только находится в моих скудных силах; мне же позвольте позаимствовать у Вас часть Ваших духовных
богатств, тем более что это не может быть в ущерб Вам самим.
М
ы беседовали в Рейнсбурге о боге, о бесконечном протяжении и
бесконечном мышлении, о различии и согласовании этих атрибутов, о
природе связи, существующей между человеческой душой и телом, а
также о принципах философии Декарта и Бэкона. Но тогда мы
говорили о вопросах столь большой важности мимоходом и как бы
385
385
сквозь решетку; между тем эти вопросы не дают мне покоя. Поэтому
обращаюсь к Вам, пользуясь правами дружбы, и прошу Вас несколько
подробнее развить мне Ваши взгляды на вышеупомянутые предметы.
Особенно же прошу Вас просветить меня относительно следующих
двух пунктов: во-первых — в чем, по Вашему, состоит истинное
различие между протяжением и мышлением; во-вторых — какие из
основных положений Декарта и Бэкона Вы считаете ошибочными и в
чем состоят те более солидные основоположения, которыми Вы
полагаете заместить их. Чем свободнее Вы будете писать мне об этих
и всех подобных вопросах, тем больше будет то одолжение, которое
Вы мне окажете и за которое я сочту своей обязанностью
отблагодарить по мере сил такими же услугами.
В
настоящее время здесь печатаются некоторые физиологические
очерки, принадлежащие перу одного знатного англичанина, мужа
выдающейся учености 4. Они трактуют о природе и упругости
воздуха, опираясь на 43 эксперимента, а также о текучести, твердости
и т.п. Как только эти очерки будут отпечатаны, я позабочусь о том, чтобы доставить их Вам через какого-нибудь знакомого, отправляющегося на континент. Засим будьте здоровы и не забывайте
друга Вашего, любящего и преданного Вам
Генриха Ольденбурга.
Лондон, 16(26) августа 1661 г.
ПИСЬМО 25
Благороднейшему и ученейшему мужу
Генриху Ольденбургу
от Б. д. С.
ОТВЕТ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ
С
лавнейший муж!
В
ы сами могли бы судить о том, насколько мне приятна Ваша дружба, если бы Ваша скромность позволяла Вам обратить внимание на те
достоинства, которыми Вы одарены в такой высокой степени. Когда я
размышляю о Ваших качествах, мне представляется, что с моей сто-
386
386
роны довольно-таки самонадеянно вступать с Вами в дружбу, особенно когда подумаю, что между друзьями решительно все, и
прежде всего все духовное, должно быть общим и что этой дружбой я
обязан не столько самому себе, сколько Вашей учтивости и
доброжелательности. Но Вы снисходите ко мне по своей любезности
и так щедро наделяете меня своею благосклонностью, что меня
перестает пугать мысль о тесных дружеских отношениях, которое Вы
мне так уверенно обещаете и о которых столь лестно для меня
просите, и я сделаю с своей стороны все возможное для полного
осуществления этой дружбы. Что же касается моих духовных средств, если только я обладаю таковыми, то они во всяком случае были бы к
Вашим услугам, даже если бы это было соединено с большой потерей
для меня. Однако дабы Вы не подумали, будто я уклоняюсь от
исполнения того, чего Вы по праву дружбы от меня требуете, попытаюсь прояснить Вам мои воззрения на предметы наших бесед, хотя не думаю, чтобы без посредства Вашей доброты это могло
содействовать теснейшему сближению между нами.
П
режде всего несколько слов о боге. Я определяю его как существо, состоящее из бесчисленных атрибутов, из которых каждый
бесконечен или в высшей степени совершенен в своем роде. При этом
следует заметить, что под атрибутом я разумею все то, что мыслится
через себя и в себе и понятие чего, таким образом, не заключает в себе
понятия о чем-либо другом. Так, например, протяжение мыслится
через себя и в себе. Иначе обстоит дело с движением; ибо движение
мыслится в другом, и понятие движения заключает в себе протяжение.
Что это есть истинное определение бога, явствует уже из того, что под
Богом мы понимаем существо в высшей степени совершенное и
абсолютно бесконечное. Что такое существо существует, легко может
быть доказано из этого определения, — но я оставляю в стороне эту
задачу, как не относящуюся к предложенному Вами вопросу.
О
днако для разрешения Вашего первого вопроса мне необходимо
доказать еще следующее: во-первых, что в природе не может быть
двух субстанций, которые не различались бы всею своею сущностью; во-вторых, что никакая субстанция не может быть произведена, но что
существование принадлежит к сущности субстанции; в-третьих, что
каждая субстанция должна быть бесконечна
387
387
или в высшей степени совершенна в своем роде. Как только это будет
доказано, Вы легко поймете, славнейший муж, общее направление
моей мысли, если только Вы будете при этом иметь в виду мое
определение бога; так что мне нет нужды говорить об этом более
пространно. Но, чтобы ясно и коротко доказать Вам все это, я не мог
придумать ничего лучшего, как предложить на Ваше рассмотрение
соответствующие доказательства, изложенные геометрическим
способом (more geometrico). Поэтому я их при сем отдельно посылаю
и буду ждать Вашего суждения о них 6.
В
о-вторых, Вы желаете, чтобы я указал Вам ошибки, которые я
усматриваю в философии Декарта и Бэкона. Хотя и не в моих
привычках раскрывать чужие заблуждения, однако я хочу исполнить и
это Ваше желание. Первая и самая важная ошибка заключается в том, что оба они очень далеки от понимания первопричины и
происхождения всех вещей. Вторая, что они не уразумели истинной
природы человеческой души (mens). Третья, что они не постигли
истинной причины заблуждений. Между тем, только человек, совершенно лишенный образования и всякого знания, может не
видеть, в какой высокой степени важно истинное познание всех этих
предметов. Что они были далеки от познания первопричины и
человеческой души, легко заключить из истинности грех
вышеупомянутых положений, а поэтому перейду прямо к
рассмотрению третьей ошибки. О Бэконе я скажу немного, потому что
он говорит об этом предмете очень сбивчиво и, излагая свое мнение, почти ничем не обосновывает его, ибо он предполагает, во-первых, что причина заблуждений коренится не только в наших ощущениях, но и в самой природе человеческого разума, который все представляет
себе по своему собственному масштабу, а не по масштабу вселенной и
таким образом уподобляется зеркалу с неровной поверхностью, которое, отражая лучи каких-нибудь предметов, примешивает свою
собственную природу к природе этих предметов. Во-вторых, он
предполагает, что человеческий ум по своей природе склонен к
абстракциям, и воображает себе неподвижным то, что является
текучим. В-третьих, он признает, что человеческий разум пребывает в
вечной неустойчивости, никогда не останавливаясь и не успокаиваясь.
Что же касается других причин, приводимых Бэконом, то они легко
могут быть сведены к одной-
388
388
единственной причине, указываемой Декартом, а именно, что
человеческая воля свободна и притом шире разума, или, по туманному
выражению Бэкона (Афор., 49), что разум не холодный свет, его
питает воля. (Следует заметить, что Бэкон, в отличие от Декарта, часто употребляет слово «разум» (ум, интеллект — intellectus), вместо
«дух» (душа — mens.) Я покажу ложность только этого последнего
положения, оставив в стороне все другие, как лишенные всякого
значения. Оба философа сами могли бы это понять, если бы только
поразмыслили о том, что между волею и отдельными хотениями
(volitiones) такая же разница, как между белизной и отдельными
предметами белого цвета, или как между человечностью и тем или
другим человеком. Утверждать, что воля есть причина того или
другого хотения, так же невозможно, как невозможно считать
человечность причиной Петра или Павла. Воля есть только
рассудочное понятие (рассудочная сущность — ens rationis) 8 и не
может быть признана причиной того или другого хотения. Отдельные
же хотения, так как они нуждаются для своего существования в
определенной причине, не могут быть названы свободными, но
необходимо являются такими, какими их детерминируют породившие
их причины. А так как, по Декарту, самые заблуждения суть не что
иное, как отдельные хотения, то отсюда необходимо следует, что
заблуждения, т.е. отдельные хотения, не являются свободными, но
детерминируются внешними причинами, а отнюдь не волей, что я и
хотел доказать, и т.д.
[Рейнсбург, сентябрь 1661 г.]
ПИСЬМО 39
Славнейшему мужу В. д. С.
от Генриха Ольденбурга.
ОТВЕТ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ
П
ревосходнейший муж, дорогой друг!
Я
получил Ваше в высокой степени ученое письмо и с большим
удовольствием прочитал его. Вполне одобряю Ваш геометрический
способ доказательства, и лишь моя непонятливость мешает мне
уразуметь то, что Вы так точно излагаете. Разрешите же мне
представить доказа-
389
389
тельства моей умственной медлительности и предложить Вам
следующие вопросы, на которые прошу у Вас ответа.
В
о-первых, достаточно ли ясно и несомненно для Вас, что из одного
только определения, которое Вы даете богу, уже вытекает бытие
такого существа? Я по крайней мере, когда подумаю о том, что
определения заключают в себе только представления нашего духа
(conceptus nostrae Mentis), что наша душа представляет себе много
такого, чего в действительности нет, и что она в высшей степени
плодовита в деле умножения и увеличения однажды приобретенных
представлений, — то не вижу, каким образом из того понятия, какое я
имею о боге, может быть сделано заключение к его бытию. Правда, из
имеющегося в моей душе запаса всех тех совершенств, которые я
усматриваю в людях, животных, растениях, минералах и пр., я могу
составить и образовать некоторую единую субстанцию, вполне
обладающую всеми этими совершенствами; более того, душа моя
способна мысленно умножать и увеличивать эти совершенства до
бесконечности и создавать себе таким образом понятие о
совершеннейшем и превосходнейшем существе. Однако отсюда
отнюдь нельзя сделать того заключения, что такое существо
действительно существует.
В
торой вопрос заключается в том, считаете ли Вы вполне
несомненным, что тело не ограничивается мышлением, а мышление
не ограничивается телом, ибо до сих пор не разрешен спор о том, что
такое мысль: телесное ли движение или некоторый духовный процесс, совершенно противоположный процессу телесному.
Т
ретей вопрос состоит в том, считаете ли Вы сообщенные мне аксиомы
недоказуемыми принципами, познаваемыми посредством
естественного света (природного света — lux Naturae) 10. Возможно, что первая аксиома действительно такова, но я не вижу, каким
образом можно отнести к числу таковых и три остальные. Вторая из
них утверждает, что в природе нет ничего, кроме субстанций и
акциденций, тогда как многие считают, что время и место не являются
ни субстанциями, ни акциденциями. Ваша третья аксиома, а именно:
«вещи, обладающие различными атрибутами, не имеют между собой
ничего общего», совершенно недоступна моему пониманию, и мне
кажется даже, что вся природа склоняет нас к признанию
противоположного.
390
390
Ведь все известные нам вещи в одних отношениях сходны между
собой, в других отличны друг от друга. Наконец, четвертая аксиома —
«вещи, не имеющие ничего общего между собой, не могут быть одна
причиной другой» — не настолько ясна моему слабому рассудку, чтобы не нуждаться в дальнейших разъяснениях. Ибо бог формально
не имеет ничего общего с сотворенными вещами, а между тем почти
все мы признаем его за их причину.
В
ы легко поймете, что раз эти аксиомы подвержены еще сомнению, то
и теоремы Ваши, на них построенные, не могут не представляться мне
шаткими. И действительно, чем более я в них вдумываюсь, тем более
запутываюсь в многочисленных сомнениях. Так, по поводу первой из
них мне думается, что два человека представляют собою две
субстанции с одним и тем же атрибутом, ибо как один, так и другой
одарен разумом, из чего я заключаю, что могут существовать две
субстанции с одним и тем же атрибутом.
О
тносительно второй теоремы я думаю, что так как ничто не может
быть причиной самого себя, то едва ли можно постигнуть, каким
образом может быть истинным то положение, что «субстанция не
может быть произведена ничем, даже и какой-нибудь другой
субстанцией». Теорема эта устанавливает, что субстанции суть
причины самих себя, что они независимы друг от друга, и таким
образом создает столько богов, сколько субстанций, а следовательно, она отвергает первую причину всех вещей. Охотно сознаюсь, что я не
в состоянии понять всего этого, если Вы не соблаговолите несколько
яснее и пространнее развить свое мнение об этом возвышенном
предмете и наставить меня относительно того, каково начало и
происхождение субстанций, а также какова взаимная зависимость и
соподчиненность всех вещей. Заклинаю Вас нашей дружбой свободно
и смело высказаться по предложенным вопросам и убедительнейше
прошу Вас хранить полную уверенность в том, что все, чем Вы
удостоите поделиться со мной, останется в сохранности и
невредимости и что я никому не сообщу ничего такого, что могло бы
причинить Вам вред или неприятность.
В нашем философском обществе 11 мы усердно, насколько
позволяют наши силы, производим опыты и наблюдения и работаем
над составлением истории 12 механиче-
391
391
ских искусств, причем исходим из того убеждения, что формы и
качества вещей лучше всего могут быть объяснены из механических
принципов и что все действия природы производятся посредством
движения, фигуры и расположения и их различных сочетаний, так что
нет никакой нужды прибегать к необъяснимым формам и скрытым
качествам (qualitates occultae), как к некоторому убежищу для
незнания.
О
бещанную книгу я пришлю Вам, как только ваши нидерландские
посланники, здесь находящиеся, отправят какого-нибудь курьера в
Гаагу, что они обыкновенно делают довольно часто, или как только
какой-нибудь знакомый, которому можно будет без опасения
доверить эту книгу, поедет в ваши края.
П
ростите мою пространность и откровенность и примите благосклонно, как подобает другу, то, что я напрямик и без всяких светских
тонкостей изложил Вам в ответ на Ваше письмо.
Остаюсь неподдельно и безыскусственно преданным Вам
Генрихом Ольденбургом.
Лондон, 27 сентября 1661 г.
ПИСЬМО 4 13
Благороднейшему и ученейшему
мужу Генриху Ольденбургу
от Б. д. С.
ОТВЕТ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ
С
лавнейший муж!
С
обираясь совершить поездку в Амстердам с намерением пробыть там
неделю или две, я получил Ваше столь приятное мне письмо и
рассмотрел Ваши возражения против посланных Вам трех моих
теорем. Опуская из-за недостатка времени все остальное, я
постараюсь ответить только на Ваши возражения.
И
так, на первое возражение скажу, что не из определения любой, какой
угодно вещи следует бытие этой вещи, а только (как я показал в
схолии, приложенной к моим трем теоремам) из определения или
идеи какого-нибудь атрибута, т.е. (как я это ясно выразил при
определении бога) такой вещи, которая мыслится через себя и в себе.
В вышеупомянутой схолии я изложил также и основание
392
392
этого различия и притом, если не ошибаюсь, довольно ясно, особенно
для философа. Ибо предполагается, что философ не может не знать
того различия, которое имеется между фикцией, с одной стороны, и
ясным и отчетливым понятием (представлением — conceptus) — с
другой стороны; а также не может отрицать истинности той аксиомы, что всякое определение или ясная и отчетливая идея истинны. Сделав
эти замечания, я не вижу, что еще требуется для разрешения первого
Вашего вопроса.
П
оэтому перехожу к рассмотрению Вашего второго вопроса. Так как
выдвигаемое Вами сомнение относится только к приводимому мною
примеру, то Вы, по-видимому, соглашаетесь со мною, что, если
допустить, что мышление не принадлежит к природе протяжения, тогда протяжение не ограничивалось бы мышлением. Но заметьте, пожалуйста, следующее: если бы кто-нибудь стал утверждать, что
протяжение ограничивается не протяжением, но мышлением, то разве
он не скажет то же самое, что протяжение бесконечно не в
абсолютном смысле, но только как протяжение? А это значит, что он
согласен со мною в том, что протяжение бесконечно не в абсолютном
смысле, а как протяжение, т.е. в своем роде. Но Вы говорите: быть
может, мышление есть телесный процесс. Допустим, хотя я этого и не
признаю. Но одного Вы не станете отрицать: что протяжение, как
таковое, не есть мышление. А этого уже достаточно для того, чтобы
иллюстрировать мое определение и доказать мою третью теорему.
В
-третьих, Вы выдвигаете против моих положений то возражение, что
[указанные мною] аксиомы не могут быть причислены к общим [для
всех людей] понятиям (notiones communes) 14.
О
днако об этом я не спорю. Но Вы сомневаетесь также и в истинности
самых этих положений и как будто хотите даже показать, что
противоположные им утверждения более похожи на истину. Но
обратите, пожалуйста, внимание на определение, которое я дал
субстанции и акциденции: из него проистекают все эти аксиомы. Ибо
так как под субстанцией я разумею то, что мыслится через себя и в
себе и понятие чего, следовательно, не заключает в себе понятия
какой-нибудь другой вещи, под модификацией же или акциденцией —
то, что существует в другом и через это другое, в котором оно
существует, мыслится, то отсюда явствует: во-первых, что субстанция
по природе
393
393
первичнее своих акциденций, ибо без нее последние не могут ни
существовать, ни быть мыслимы. Во-вторых, что, кроме субстанций и
акциденций, не существует ничего в реальности или вне интеллекта, ибо все существующее мыслится или через себя или через что-либо
другое, и всякое понятие либо заключает, либо не заключает в себе
понятие о какой-нибудь другой вещи. В-третьих, что вещи, обладающие различными атрибутами, не имеют между собой ничего
общего, ибо под атрибутом я разумею нечто такое, понятие о чем не
заключает в себе понятия о какой-либо другой вещи. В-четвертых, наконец, что вещи, не имеющие между собой ничего общего, не могут
быть одна причиной другой, ибо если бы действие не имело ничего
общего с причиной, то все, что оно имело бы, оно имело бы из ничего.
Что же касается Вашего замечания, будто бог формально не имеет
ничего общего с сотворенными вещами и т.д., то я в моем
определении установил нечто прямо противоположное. А именно: я
сказал, что бог есть существо, состоящее из бесчисленных атрибутов, из которых каждый бесконечен или в высшей степени совершенен в
своем роде. А что касается Вашего возражения против моей первой
теоремы, то прошу Вас, друг мой, принять в соображение, что люди
не творятся [из ничего], а только порождаются и что тела их
существовали уже раньше, хотя и в другой форме. [Из теоремы
первой] можно, однако, сделать то заключение — и я охотно признаю
это, — что если бы хоть одна часть материи могла быть уничтожена, то с ней вместе исчезло бы и все протяжение. Вторая же моя теорема
устанавливает не много богов, но только одного, а именно: состоящего из бесконечных атрибутов. И т.д.
[Рейнсбург, октябрь 1661 г.]
ПИСЬМО 5 15
Славнейшему мужу Б. д. С,
от Генриха Ольденбурга.
ОТВЕТ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ
Г
лубокоуважаемый друг!
П
римите обещанную мною книжку 16 и напишите мне свое суждение о
ней, в особенности о разбираемых в ней опытах над селитрой и над
текучестью и твердостью.
394
394
Очень благодарю Вас за Ваше второе ученое письмо, которое я
получил вчера. Однако весьма сожалею, что Ваша поездка в
Амстердам помешала Вам ответить на все мои сомнения. Прошу Вас, как только позволит время, изложить мне все пропущенное. Ваше
последнее письмо, конечно, многое мне разъяснило, однако не
настолько, чтобы окончательно рассеять всякий туман, но я уверен, это Вам удастся сделать, когда Вы отчетливо и ясно изложите мне
Ваше мнение об истинном и первоначальном происхождении вещей.
Ибо пока мне не ясно, от какой причины и каким образом вещи
получили свое начало, а также в каком отношении они находятся к
своей первопричине, — если только таковая существует, — до тех пор
все, что я слышу и читаю, представляется мне в каком-то беспорядке.
Итак, убедительно прошу Вас, ученейший муж, осветить мне своим
факелом этот предмет и не сомневаться в искренности и
благодарности преданного Вам
Генриха Ольденбурга.
Лондон, 11(21) октября 1661 г.
ПИСЬМО 6 17
Содержащее замечания на книгу благороднейшего мужа
Роберта Бойля о селитре, текучести и твердости
благороднейшему и ученейшему
мужу Генриху Ольденбургу
от Б. д. С.
ОТВЕТ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ
С
лавнейший муж!
К
нигу высоко одаренного Бойля я получил и, насколько позволило
время, прочитал. Примите мою величайшую благодарность за этот
подарок. Вижу, что я не ошибся в своем предположении, когда, прочитав [в Вашем первом письме] обещание относительно присылки
этой книги, сказал себе, что завладеть Вашим вниманием могла
только вещь действительно выдающаяся. Вы желаете, ученейший
муж, чтобы я высказал Вам об этой книге мое
395
395
скромное суждение. Постараюсь это сделать, насколько позволяют
мне мои слабые силы, а именно: я буду указывать на то, что
представляется мне неясным или недостаточно обоснованным, хотя
вследствие моих занятий я еще не имел возможности всего прочесть, а
тем более проверить. Итак, примите нижеследующие замечания, которые я считаю нужным сделать относительно селитры и т.д.
О селитре
В
о-первых, из своего опыта над воссозданием селитры автор заключает, что селитра есть нечто разнородное, состоящее из твердых и летучих
частей, и что природа ее (по крайней мере насколько она выражается
во внешних явлениях) сильно отличается от свойств этих частей, хотя
селитра и получается путем простого смешения последних.
О
днако для того, чтобы признать это заключение правильным, нужно
было бы, как мне кажется, сделать еще один опыт, который доказал
бы, что селитренный спирт 18 действительно есть нечто отличное от
селитры и что без посредства щелочных солей он не может ни
отвердевать, ни кристаллизоваться. По крайней мере надо было бы
исследовать, всегда ли одинаково количество остающейся в реторте
твердой соли при одинаковом количестве селитры и увеличивается ли
оно пропорционально увеличению количества селитры. Что же
касается того, что, как говорится в § 9, дознано славнейшим мужем
при помощи весов, а также того, что свойства селитренного спирта и
селитры совершенно различны и даже отчасти противоположны, то
все это, по моему мнению, ничего не дает для подтверждения
сделанного им заключения. Чтобы пояснить мою мысль, я изложу
вкратце то, что мне представляется наиболее простым объяснением
явления воссоздания селитры, и к этому присоединю два-три простых
эксперимента, подтверждающих до некоторой степени мое
объяснение.
И
так, для простейшего объяснения этого явления я предположу, что
между селитренным спиртом и самой селитрой нет другого различия, кроме одного, довольно очевидного, а именно, что частицы последней
находятся в покое, тогда как частицы первого довольно сильно
возбуждены и находятся в движении. Что касается твердой соли, то я
полагаю, что она не вносит ничего в образование сущности
396
396
селитры; я буду смотреть на нее просто как на шлаки селитры, от
которых (как я нахожу) не свободен и селитренный спирт и которые
плавают в нем в достаточно большом количестве, хотя и в
размельченном состоянии. Эта соль или эти шлаки имеют в себе поры, или проходы, соответствующие по величине селитренным частицам.
Но, когда селитренные частицы выгоняются оттуда действием огня, некоторые проходы суживаются, а другие вследствие этого
расширяются: таким образом, сама субстанция или стенки этих
проходов становятся более жесткими и вместе с тем весьма хрупкими.
Как только мы подливаем туда селитренного спирта, некоторые
частички его с силою устремляются в эти узкие проходы, и так как
величина этих частичек (как это недурно доказано Декартом) неодинакова, то они, прежде чем сломать хрупкие стенки проходов, изгибают их наподобие свода. Взломавши стенки проходов, частицы
селитренного спирта заставляют их обломки отскакивать назад; при
этом они, сохраняя свое прежнее движение, остаются по-прежнему
неспособными к сгущению и кристаллизации. Те же частицы селитры, которые проникают в более широкие проходы, не соприкасаясь со
стенками последних, неизбежно окружаются особым тончайшим
веществом, которое увлекает их кверху, подобно тому как огонь или
жар увлекает кверху частицы дерева и уносит их вместе с дымом.
Если этих частиц было довольно много или если они соединились с
обломками стенок и частицами, проникшими в узкие проходы, то из
них образуются уносящиеся кверху капельки. Но если твердая соль
разрыхлена и размягчена действием воды * или воздуха, то она
делается способной противостоять напору селитренных частиц и
заставляет их утратить то движение, в котором они находились, и
снова остановиться, подобно тому как песок или глина задерживает
движение погрузившегося в него пушечного ядра. В этой-то остановке
частиц селитренного спирта и состоит воссоздание селитры, причем
— как видно из этого объяснения — твердая соль служит только
орудием для этого воссоздания. Вот что я имею сказать о воссоздании
селитры.
__________________
* Если Вы спросите, почему при подливании селитренного спирта в
водяной раствор твердой соли происходит шипение, прочтите [мое]
замечание на § 25.
397
397
Р
ассмотрим теперь, с Вашего позволения, во-первых, почему
селитренный спирт и селитра так сильно отличаются на вкус; во-
вторых, почему селитра воспламеняется, между тем как селитренный
спирт — никогда. Для уразумения первого должно заметить, что тела, находящиеся в движении, никогда не сталкиваются с другими телами
своими наиболее широкими поверхностями, тогда как тела, находящиеся в покое, соприкасаются именно этими своими
сторонами. Таким образом, частицы селитры, если их положить на
язык, ложатся на него вследствие своего спокойного состояния
наиболее широкими из своих граней и тем закрывают поры его — что
и является причиной ощущаемого холода (причем следует принять во
внимание, что слюна не может разъединить селитру на достаточно
малые частицы). Но если частицы эти кладутся на язык в состоянии
возбуждения и движения, то они попадают на него своими острыми
ребрами, проникают в его поры, и, чем возбужденнее они двигаются, тем острее будет ощущение на языке; так игла, попадая на язык, вызывает различные ощущения, смотря по тому, соприкасается ли она
с ним своим острием или своей длинной поверхностью.
П
ричина же воспламеняемости селитры и невоспламеняемости
селитренного спирта состоит в том, что частицы селитры, находясь в
покое, не так легко уносятся огнем вверх, как частицы, имеющие
собственное движение по всем направлениям. Селитренные частицы, находясь в покое, не поддаются действию огня до тех пор, пока он не
отделит их друг от друга и не окружит каждую из них со всех сторон.
Но раз окружив частицы, огонь влечет их за собой то в одну, то в
другую сторону, пока они не приобретут собственного движения и не
унесутся вверх с дымом. Частицы же селитренного спирта, которые
уже находятся в движении и отделены друг от друга, от самого
незначительного жара раздвигаются во все стороны на большое
пространство, и, в то время как некоторые из них уносятся в дыме, другие проникают в поддерживающее огонь вещество, прежде чем
пламя успеет окружить их. Поэтому-то они скорее тушат огонь, чем
служат ему пищею.
О
бращусь теперь к экспериментам, которые, как мне кажется, подтверждают данное мною объяснение. Во-первых, я нашел, что
селитренные частицы, во время
398
398
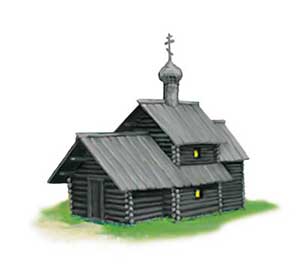
горения уносящиеся в дыме, суть не что иное, как чистая селитра. Я
несколько раз расплавлял селитру до такой степени, что реторта
значительно накалялась; затем я зажигал селитру горящим углем и
собирал дым от нее в охлажденную стеклянную банку, пока она не
становилась от этого влажной. Потом я еще более
увлажнял бутылку собственным дыханием и выставлял ее
на холодный воздух для просушивания *. После этого в
некоторых местах сосуда начинали показываться
кристаллики селитры. Чтобы не сомневаться в том, что
эти кристаллики образовались из одних только летучих
частиц, и чтобы нельзя было предположить, что огонь
увлекал с собою нерасщепленные частицы селитры
(выражаясь в духе почтенного автора) и затем вместе
извергал и твердые и летучие частицы раньше, чем они
успевали разъединиться, — чтобы исследовать это, говорю я, я пропустил дым через трубу А (фиг. 1) длиною
около фута, как через печную трубу, для того чтобы более
тяжелые части пристали к этой трубе и чтобы я мог
собрать [в банке] одни лишь летучие части, проходившие
через более узкое отверстие В. При этом я брал очень
небольшое количество селитры, для того чтобы пламя
было слабее. И опыт удался так же, как и без трубы.
О
днако я не хотел остановиться на этом. Чтобы лучше обследовать это
дело, я взял большее количество селитры, расплавил ее и зажег
горящим углем. Потом, как и прежде, я приставил к реторте трубу А, а
над отверстием В, пока пылало пламя, я держал кусок плоского
стекла. Стекло покрылось некоторым веществом, которое, будучи
выставлено на воздух, стало влажным, откуда я заключил, что оно
состоит из одних твердых частиц. Хотя я ждал несколько дней, но я не
обнаружил на стекле ни одного кристаллика селитры и не мог
заметить никакого действия селитры. Но когда я полил вещество
селитренным спиртом, то селитра немедленно появилась. Из этого я, как мне кажется, имел право заключить: во-первых, что твердые
частицы селитры при ее расплавлении отделяются от летучих и если и
уносятся вверх пламенем, то только
__________________
* Когда я производил этот опыт, воздух был совершенно ясен.
399
399
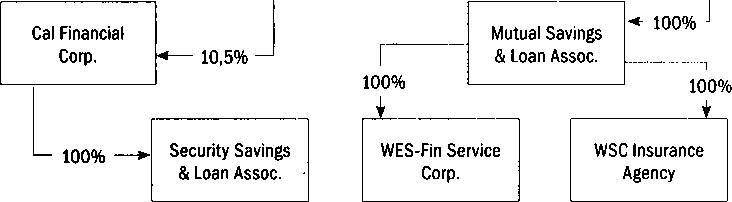
отдельно от летучих частиц. Во-вторых, что твердые частицы, отделившиеся во время горения от летучих, не могут уже вновь
соединиться с ними. Отсюда же следует, в-третьих, что частицы, приставшие к стенкам банки и превратившиеся в кристаллики, были
не твердые, а только летучие.
В
торой эксперимент, доказывающий, что твердые части суть не что
иное, как шлаки селитры, состоял в следующем. Я нашел, что, чем
более селитра очищается от шлаков, тем она становится летучее и
способнее к кристаллизации, потому что, когда я клал кристаллы
очищенной или профильтрованной селитры в стеклянный бокал А
(фиг. 2) и подливал туда немного холодной воды, селитра отчасти
испарялась вместе с этой холодной водой и летучие
частицы прилипали к верхним краям бокала, образуя
кристаллики.
Т
ретий эксперимент, который, как мне кажется, указывает на то, что
частицы селитренного спирта, по мере того как они утрачивают свое
движение, получают способность воспламеняться, состоит в
следующем. Я налил несколько капель селитренного спирта на
влажную бумагу, а сверху насыпал песку, в который селитренный
спирт стал постепенно впитываться. Когда же песок всосал таким
образом весь или почти весь селитренный спирт, я старательно
высушил его надогнем на этой же самой бумаге. Потом, ссыпав песок, я положил бумагу на горящий уголь, причем она, едва
соприкоснувшись с ним, стала искриться так, как если бы она впитала
в себя самую селитру.
П
ри более подходящих обстоятельствах я присоединил бы к этому
эксперименту еще ряд других и тем, может быть, окончательно
разрешил бы вопрос. Но иного рода предметы настолько отвлекают
меня, что, с Вашего позволения, я отложу это до другого раза и
перейду к следующим замечаниям.
§
5. В том месте, где славнейший муж говорит мимоходом о форме
селитренных частиц, он обвиняет новейших писателей в том, что они
неверно изображали эту форму. Я не знаю — подразумевает ли он в
числе этих писателей и Декарта. Если да, то, вероятно, он обвиняет
его с чужих слов, потому что Декарт ничего не говорит о частицах, которые могут быть видимы глазами. Не думаю также, что-
400
400
бы славнейший муж допускал мысль, будто кристаллики селитры, если они оботрутся до того, что примут форму параллелепипеда или
иной какой-нибудь фигуры, перестанут вследствие этого быть
селитрой. Но, может быть, он имеет в виду тех химиков, которые
признают только то, что они могут видеть глазами и ощупать руками. §
9. Если бы этот эксперимент можно было вполне точно проделать, то
он служил бы прямым подтверждением того, что я хотел вывести из
моего первого, упомянутого выше, эксперимента.
§
13. Вплоть до § 18 славнейший муж пытается показать, что все
чувственные качества (qualitates tactiles) зависят только от движения, фигуры и прочих механических состояний. Но так как все эти
доказательства предлагаются славнейшим автором не в качестве
математических 19, то я не считаю нужным исследовать, вполне ли они
убедительны. Не знаю только, почему славнейший муж так хлопочет
вывести это из своего эксперимента, раз это уже более чем достаточно
доказано Бэконом Веруламским, а затем Декартом. Не вижу также, чтобы этот эксперимент [Бойля] давал нам более ясные показания, чем другие довольно обыденные эксперименты. Так, например, относительно теплоты: разве это не следует с такою же очевидностью