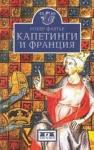Я написал эту книгу не только с любовью, но и со спокойствием. Я совершенно не занимался вопросами внешней политики. Я не боялся, что мой патриотизм повлияет на мою манеру изложения фактов. Речь идет о временах очень отдаленных, чтобы мешали предубеждения, которыми можно преисполниться бессознательно, когда занимаешься более близким к нам периодом.
И я написал ее с бесконечной признательностью историкам, среди которых были и есть мои учителя или друзья и которые с восхитительной сознательностью и неизменной заботой о совершенстве своего труда, часто неизвестного широкой публике, медленно высвобождали историческую правду. Все хорошее, что можно найти в этой книге, идет от них. Я лишь подытожил результаты их работ.
Я не захотел обременять свой труд, приумножая замечания и ссылки. Я не хотел написать книгу для эрудитов. Я признаюсь, что хотел, чтобы меня читали без скуки и непосвященные. Должен, однако, сказать, что не собираюсь высказывать мнение бездоказательно или, по крайней мере, без того, что мне представляется достаточными доказательствами. Впрочем, в первой главе я дал необходимые библиографические указания. Те, кто захочет проверить сказанное мной, смогут найти в них необходимые элементы для своих изысканий.
Я лучше, чем кто-либо, знаю недостатки этой работы. Работа такого рода не может быть окончательной. Она дает только общий взгляд, основанный на предшествующих трудах, а также на личных исследованиях. Ибо в природе общий взгляд меняется в соответствии с высотой солнца. То же самое происходит в истории в связи с состоянием достижений частных изысканий.
Но, если бы эта книга смогла привлечь внимание историков молодого поколения к периоду, где остается еще столько сделать, если бы она заставила размышлять неспециалистов над историческим вопросом, как создавалась наша родина, она бы достигла своей цели.
Париж, июль 1941 г.
Глава I
Как мы познаём эту историю
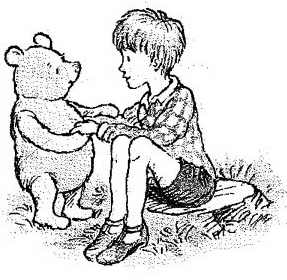
Речь идет не о том, чтобы дать здесь обзор — даже краткий — источников, которыми может воспользоваться историк первой капетингской династии. Работа — устаревшая, но все еще необходимая — Огюста Молинье[3] дает нам критическое их перечисление, к которой читатель может всегда обратиться, если пожелает, при личном соприкосновении с документами углубить тот или иной вопрос, поднимаемый этой историей. В вводной статье можно было бы подчеркнуть только то, насколько наши знания этого периода фрагментарны и слишком часто недостаточны. Хотелось бы также подать читателю мысль, что дают нам тексты, пережившие свое время.
История на народном языке появилась во Франции, возможно, последней среди литературных жанров. В течение всего рассматриваемого здесь периода события излагались в основном на латыни. Отсюда — следует, что церковники почти единственные, кто брался за перо, чтобы оставить потомству воспоминания о том, что они видели, читали или слышали. Отсюда следует, что все прошлое представляется нам разворачивающимся в церковной атмосфере; что суверены в ней часто принимают облик коронованных монахов, занятых единственно службой церкви или ссорящихся с ней; что особенно записывались события, интересующие церковь или просто излагаемые с ее точки зрения. Классический пример Эльго, монаха аббатства Флери-сюр-Луар, великолепно демонстрирует наше предположение. Современник короля Роберта, который, говорит он, обращался с ним как с сыном, Эльго составил биографию этого суверена, Epitome vitae regis Roberti[4], провозгласив, что желает говорить только о добродетелях частного лица и оставить в стороне общественную деятельность своего героя. Эта крайняя точка зрения дает себя почувствовать в произведениях, которые считаются, однако, более содержательными источниками. Она представлена, например, в «Жизни Людовика Толстого», написанной аббатом Сен-Дени Сугерием. Оттуда мы узнаем, что почти все поступки этого короля, по крайней мере те, что сообщает его биограф, мотивировались помощью или защитой аббатства Сен-Дени или прочими установлениями того же рода. В следующем XIII в. здесь совершенно ничего не изменится, но в эту эпоху возрастающее обилие архивных документов сделает менее необходимым прибегание к помощи хронистов.
Ибо почти единственно к ним надо обращаться, чтобы узнать о первых столетиях капетингской династии. Каковы же в эту эпоху люди, которые берутся писать историю? Это — монахи, живущие в своих монастырях и редко выходящие из них, горизонт которых ограничен практически пределами владений их аббатства. Так что они не могут писать иное чем местные анналы или описывать события, происходящие в непосредственном соседстве от хрониста; последние, естественно, занимают главное место, и король Франции будет в них появляться редко, за исключением, когда монастырь прямо зависит от него или расположен в маленьком капетингском домене; поэтому центральной фигурой здесь, лицом, наиболее часто упоминаемым, будет представитель местной династии, граф, часто даже мелкий соседний сеньор, тот, деяния и поступки которого интересуют непосредственно каждодневную жизнь монастыря.
Не следует требовать от этих анналистов взглядов или исследований по общей истории королевства. Нельзя даже быть уверенным, что они представляли себе душевное состояние своих заурядных современников. Надо думать, что некоторые члены благородного класса, а также купцы смотрели на мир более широко и имели более общее представление о событиях. К несчастью, эти взгляды и представления не были записаны.