Предлагаемая книга имеет целью представить общий обзор жизни и царствования императора Павла, в существенных их чертах, и тем заполнить пробел, существующий в русской исторической литературе. Автор, желая сделать труд свой более доступным публике, при изложении царствования Павла I, ограничивается наиболее важными фактами, предоставляя себе более подробное изложение событий этого царствования, а равно и критический анализ материалов, им для сей цели использованных, сделать в большой, двухтомной «Истории Императора Павла», художественное издание которой, с массой иллюстраций, печатается в Экспедиции заготовления государственных бумаг.
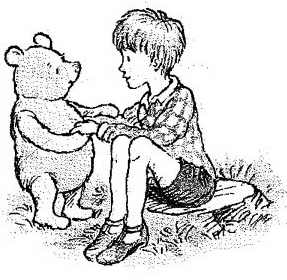
Павел Петрович, Государь Цесаревич, Наследник и Великий Князь.

Записка императора Павла к императрице Марии Феодоровне (1798 г.)
Введение
В тысячелетней жизни России наиболее интересным периодом по сложности исторических комбинаций, богатству красок и причудливости внешних очертаний бесспорно является XVIII в. Два мировых гения: Петр I и Екатерина Вторая заполняют своею деятельностью первую и вторую его половины и дают направление жизни русского народа, из московского, домашнего круга выводя его на широкую сцену мировой истории. На беспредельных равнинах России сошлись Восток и Запад с их многовековыми культурами, и среди старейших исторически — юный народ делал первые, робкие, но гигантские шаги на пути создания собственной, оригинальной культуры и уяснения собственного исторического типа. Задача была трудная: мало было того, чтобы избежать поглощения Европой или Азией, — мало было сыграть роль равнодействующей между двумя этими силами: нужно было проявить данные для воссоздания третьей, регулирующей и руководящей мировой силы. Исторический процесс этот далеко еще не закончен и в настоящее время: он будет продолжаться, пока жива будет Россия, жив будет русский народ; но первые, самые тяжелые этапы этого пути уже пройдены, и чем далее мы удаляемся от них, — тем более отметаем шелуху от зерна, тем более уясняем себе сущность пережитого исторического периода. С этой точки зрения и внешняя история русского государства получает иное освещение: мы научились понимать, что Петр I и Екатерина Вторая, как великие исторические деятели, сами созданы были нравственной и материальной мощью русского народа и что они возможны были только в России, что где-нибудь в Италии или Германия их творческая деятельность, в лучшем случае, нашла бы себе применение на другом, весьма и весьма скромном поприще, и их гениальные дарования заглохли бы в самом начале, не получив развития[1]. Как первые люди своего народа, как первые слуги государству, оба они отражали в своей личности творческие способности народа, проявляя их в своей деятельности, и мы думаем, что между Петром и Екатериной должен был быть хронологический перерыв, чтобы элементы народной жизни, приведенные в брожение деятельностью первого, могли бы успокоиться и обнаружить способность нового восприятии к началу деятельности второй. Такова психология жизни народов, как и отдельных лиц, и оттого государственная, иногда даже личная жизнь русских самодержцев отражала на себе состояние современной ей русской жизни, быть может, в большей степени, чем наоборот. Мы думаем также, что и краткое, четырехлетнее царствование непосредственного преемника Екатерины, императора Павла I, являющееся предметом нашего очерка, — было прямым последствием естественного, логического хода русской истории, и, отметая внешнее, случайное, личное, полагаем, что оно завершило собой XVIII век в русской истории недаром: ярко отражая в себе современное положение русского общества и народа, царствование императора Павла было с одной стороны, до некоторой степени, коррективом к царствованию его гениальной матери, а с другой, во многих отношениях, началом нового периода государственной жизни русского народа.
До последнего времени царствованием императора Павла занимались по преимуществу с анекдотической точки зрения. Причину этого явления напрасно было бы искать в одних лишь внешних условиях, в которые поставлена была наша историческая литература: занимались, главным образом, освещением именно отрицательных сторон царствования императора Павла или казавшихся таковыми, — теми фактами, в которых выразилась причудливая, нервная натура государя или свойства близких к нему лиц; объективное изучение событий, происшедших в царствование преемника Екатерины в их отношении в русской жизни, критическая проверка исторических материалов за этот период времени, отодвигались на второй план. Должно сознаться, что до сих пор нет у вас даже краткого, фактического обозрения Павловского периода русской истории: анекдот в этом случае оттеснил историю, хотя, естественно, не мог упразднить ее. Врагами истории, нелицеприятной и правдивой, явились, прежде всего, все лица, которые боролись против правительственной системы Павла и против него самого, и как при жизни, так после смерти его пользовались всеми средствами, чтобы выставить все его действия в непривлекательном виде: это служило к оправданию их самих и их деяний. Деятели Александровской и Николаевской эпохи, также склонны были поддерживать анекдотический характер изучения истории Павла I, хотя не по одинаковым причинам, — и документы его царствования лишь теперь выплывают наружу, отводя анекдотам приличное для них место. Странно сказать, что объективному изучению именно Павловского времени ставились особые препоны; лишь одному из исследователей, гр. Д. А. Милютину, в классическом труде его о войне 1799 г.[2], удалось положить начало научному изучению царствования императора Павла, и то лишь потому, что он занят был главным образом только военными и дипломатическими фактами и мало касался внутренней политики императора. Официальные и частные документы Павловского времени сваливались в глубину архивов и в одну из Кремлевских башен, не считая тех, которые уничтожались, иногда преднамеренно, по тем или другим причинам… С другой стороны, со времен Рылеева и Пушкина, находившихся под живым впечатлением рассказов современников, говорить о «деспотизме» Павла, как о «задах Иоанна Грозного», считалось, признаком хорошего литературного тона. Короче, о царствовании Павла можно было писать лишь одну «горькую» правду и неправду. История таким образом превращалась в памфлет, и, действительно, даже теперь, спустя сто лет, читая некоторые исследования об императоре Павле, мы как бы переживаем впечатления и слушаем отзывы самых пристрастных и только пристрастных его современников: на основании их можно подумать, что государственная жизнь России в Павловское время остановилась на четыре года, что цель деятельности правительства за это время заключалась главным образом в строгих, непомерных и часто несправедливых наказаниях и стеснениях частной жизни и что, наконец, сам император, не руководимый никакой определенной правительственной системой, действовал, как говорили некоторые из его современников, только под влиянием впечатлений и личных чувств, не всегда уравновешенных, «выворачивая все пружины государственного строя» и производя лишь «хаос» и «кутерьму». Вследствие односторонней разработки материалов об императоре Павле, в исторических трудах о его царствовании приводятся отзывы современников и не всегда проверенные факты, говорящие в пользу исходной точки зрения авторов и исключаются, как излишние, все другие, которые с этой точкой зрения не имеют причинной связи; при изложении биографических данных об императоре, для его характеристики берутся отдельные эпизоды из его правительственной деятельности, которые, как части одной и той же картины, взятые в отдельности, вне связи с рядом других фактов, теряют свой смысл и значение: нельзя, кажется, отрицать, что уяснение нравственного образа Павла Петровича, как государя, будет возможно лишь после изучения его деятельности в целостном ее виде. Говоря однажды о недовольстве дворянства его распоряжениями, император Павел заметил: «я надеюсь, что потомство отнесется во мне беспристрастнее». Надежде этой, кажется, не скоро еще суждено осуществиться. Хотя в последнее время и появились ценные в научном смысле работы об императоре Павле и его времени, но они или касаются только частных вопросов, или пре имущественно имеют целью изучение великокняжеского периода его жизни. Можно сказать с уверенностью, что полная история царствования императора Павла в истинном своем виде лежит еще в государственных и семейных архивах.
Между тем, детальное изучение царствования императора Павла, помимо биографического и эпизодического интереса, должно иметь большое значение и для общей истории России XVIII и XIX веков: тогда только может быть определена истинная связь между царствованиями Екатерины Второй и Александра I, тогда только вполне может уясниться личность и значение деятельности сына и преемника Павла, императора Александра Павловича, историю царствования которого, уже довольно разработанную, до сих пор приходится начинать или с пустого места, или со слов манифеста, в котором Александр обещал «шествовать по премудрым стопам» Екатерины, упраздняя тем значение предыдущего царствовании одним почерком пера…
Личность императора Павла, как государя, его характер и миросозерцание, поэтому, и не могли быть выяснены, и отзвуки речей, раздававшихся при его жизни, преследуют нас на столетнем промежутке времени. Одни называли его «сыном Минервы», т. е. Екатерины: это были люди, недовольные политикой Павла и думавшие, что он, как сын гениальной государыни, должен был мыслить и править не иначе, как в духе своей матери; другие, с точки зрения семейных отношений, считали Павла Петровича «коронованным Гамлетом», приписывая все причудливые и неожиданные по своей резвости душевные движения императора внутренней борьбе, происходившей в нем от дней нежной его молодости и зависевшей будто бы исключительно от семейных причин. И то, и другое название имеет свою цену для историка, но лишь в том случае, если он дает им более широкое толкование. Как «сын Минервы», император Павел не остался чужд влиянию ее могущественного ума, и широкого политического кругозора, не усвоив себе, однако, ни ее миросозерцания, ни правительственных приемов; как «коронованный Гамлет», Павел Петрович, подобно многим другим русским людям того времени, не сознавая ясно ни исторических задач России, ни направления предлежащего ей пути, всю жизнь провел в борьбе между осаждавшими его западно-европейскими влияниями культурного и некультурного свойства, с одной стороны, и любовью в своему народу во всем его целом и смутной верой в его великие силы — с другой. Несомненно одно, что двойная борьба эта, в связи со многими другими условиями, в конце концов, должна была тяжело отозваться на духовных силах императора, на его болезненной, нервной организации: характер и миросозерцание его развились при самой неблагоприятной обстановке. Так как деятельность Павла Петровича, как императора, тесно связана с условиями его жизни до вступления его на престол, то выяснению этих условий мы и посвятим первые страницы нашего очерка[3].
Глава I
Рождение великого князя Павла. — Первоначальное его воспитание. — Граф Никита Иванович Панин. — Роль императрицы Екатерины II в воспитании сына. — Совершеннолетие Павла Петровича и политическое его значение. — Два брака. — Путешествие за границу. — Семейные отношения и жизнь в Гатчине. — Политическое миросозерцание Павла Петровича. — Кто «виноват»? — Последние годы царствования императрицы Екатерины.
Император Павел Петрович родился 20 сентября 1754 г. от брака наследника русского престола, великого князя Петра Феодоровича, с великой княгиней Екатериной Алексеевной. Рождение царственного младенца обрадовало бабушку его, императрицу Елисавету Петровну, и всю Россию, дотоле долго и напрасно ждавшую упрочения престолонаследия в роде Петра Великого: казалось, что наступил конец дворцовым и военным переворотам, наполнявшим собою историю России после Петра, и что самодержавная власть перестанет наконец быть орудием вожделений высшего русского дворянства и всякого рода иностранцев. Императрица, по духу своему чисто — русская, желала, чтобы новорожденный и единственный внук ее получил русское воспитание, вне иностранных влияний, и поэтому взяла его, с первого же дня, на свое попечение, устранив от него родителей, в которым она не чувствовала доверия. Великий князь Петр Федорович с ничтожными умственными и нравственными задатками соединял в себе любовь ко всему немецкому, и судьбы родной Голштинии, которой он был герцогом, были для него дороже интересов великой империи, смотревшей на него, как на будущего своего монарха. Мать Павла, будущая императрица Екатерина Вторая, также не пользовалась полным доверием императрицы Елисаветы: тонкий ум 25-летней великой княгини, ее широкое образование, неоднократно проявлявшийся в ней интерес в государственным делам, даже отталкивали от нее императрицу, давая ей поводы подозревать в своей невестке скорее склонность в политическим интригам, чем способность в воспитанию детей. Императрица не пощадила в этом случае даже естественных чувств матери и действовала в этом смысле, с непривычною для нее сухостью, тотчас по рождении младенца — внука. «Только что спеленали его», — рассказывает сама Екатерина в своих «Записках», — «как явился, по приказанию императрицы, ее духовник и нарек ребенку имя Павла[4], после чего императрица тотчас велела повивальной бабушке взять его и нести за собою, а я осталась на родильной постели… Я и без того заливалась слезами с той самой минуты, как родила. Меня особенно огорчало то, что меня совершенно бросили. После тяжелых и болезненных усилий я оставалась решительно без призору, между дверями и окнами, плохо затворявшимися… Такое забвение или небрежность, конечно, не могли быть мне лестны. В городе и империи была великая радость по случаю этого события. На другой день я начала чувствовать нестерпимую ревматическую боль, начиная от бедра вдоль голени и в левой ноге. Боль эта не давала мне спать, и сверх того со мною сделалась сильная лихорадка; но, не смотря на то, я и в тот день не удостоилась большого внимания. Впрочем великий князь на минуту явился в моей комнате и потом ушел, сказав, что ему некогда больше оставаться. Лежа в постели, я беспрерывно плакала и стонала; в комнате была одна только Владиславова (камер-фрау); в душе она жалела обо мне, но ей нечем было помочь. Да я и не любила, чтобы обо мне жалели, и сама не любила жаловаться: я имела слишком гордую душу, и одна мысль быть несчастной была для меня невыносима; до сих пор я делала все, что могла, чтобы не казаться таковой… Наконец великий князь соскучился по моим фрейлинам, по вечерам ему не за кем было волочиться, и потому он предложил проводить вечера у меня в комнате. Тут он начал ухаживать за графиней Елизаветой Воронцовой, которая, как нарочно, была хуже всех лицом»[5].
Крещение Павла Петровича совершено было 25 сентября. Россия, подобно императрице, была обрадована рождением младенца, правнука Петра В., и целый год тянулись по этому случаю праздники всякого рода при дворе и у знатных лиц. Свою благодарность матери новорожденного императрица выразила тем, что после крестин сама принесла ей на золотом блюде указ Кабинету о выдаче ей 100 000 р., но увидеть сына в первый раз после родов разрешено было великой княгине только чрез шесть недель, когда она принимала очистительную молитву: тогда Елисавета Петровна во второй раз пришла в ней в комнату и велела принести в ней Павла. В третий раз показан был Павел матери, по ее просьбе, лишь весною 1755 г., по случаю отъезда великокняжеской четы в Ораниенбаум. Великий князь Петр Феодорович в рождению сына отнесся совершенно равнодушно.
Первоначальная семейная обстановка жизни великого князя Павла была таким образом решена: баловень самодержавной бабушки, встреченный при появлении своем на свет слезами гениальной матери и равнодушием ничтожного отца, должен был долгое время расти и развиваться на попечении мамушек и нянюшек, которым поручила его придерживавшаяся старозаветных русских традиций государыня. Павла Петровича, как помещичьего сынка, сдали постепенно на руки невежественной женской дворне, со страхом заботившейся лишь о том, чтобы беречь и холить барское дитя, оставшееся без родительской ласки и призора. «Я должна была — пишет Екатерина, — лишь украдкой наведываться о его здоровье, ибо просто послать спросить о нем значило бы усомниться в попечениях императрицы и могло быть очень дурно принято. Она поместила его у себя в комнате и прибегала к нему на каждый его крик: его буквально душили излишними заботами. Он лежал в чрезвычайно жаркой комнате, во фланелевых пеленках, в кроватке, обитой мехом черных лисиц; его покрывали одеялом из атласного тика на вате, а сверх того еще одеялом из розового бархата, подбитого мехом черных лисиц. После я сама много раз видала его укутанным таким образом; пот тек у него с лица и по всему телу, вследствие чего когда он вырос, то простуживался и заболевал от малейшего ветра. Кроме того, к нему приставили множество бестолковых старух и мамушек, которые своим излишним и неуместным усердием причинили ему несравненно больше зла, физического и нравственного, чем добра»[6]. На руки этим нянюшкам отдана была и сестра Павла, великая княжна Анна Петровна, родившаяся 9 декабря 1757 г. Чрез год с небольшим, 7 марта 1759 г., великая княжна Анна скончалась, и лишь после этого Екатерина получила дозволение видеть сына раз в неделю, тогда как прежде для каждого ее свидания с ним требовалось особое разрешение императрицы. Еще весною 1758 г., когда Павлу было уже четыре года, Екатерина заявила, что так как она лишена утешения видеть своих детей, то ей все равно, жить ли от них в ста шагах или в ста верстах[7].
