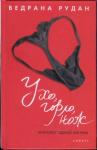Это прозвучало довольно грубо. И это неправда. Поганый лжец! Я что-то не знаю женщин вроде меня. Или матерей вроде моей старухи. Послушать Кики, так получается, что почти все хорватки просто сербские подстилки. А это не так. ОК. Я не хочу сказать, что моя старуха шлюха или сербская подстилка. Но этого Живко я ей простить не могу. Не могу и не прощу. В те годы, только не спрашивайте, в какие именно, я в истории не ориентируюсь, я по телефонному справочнику начала названивать всем Бабичам на Корчулу. «Алло, я Тонка, Тонка Бабич с Корчулы… Я не знаю своего отца, ищу родственников… Если можете…» На том конце всегда бросали трубку. Корчула была тогда окружена военными кораблями. Да и в моем окне они тоже маячили. Им, Бабичам с Корчулы, плевать было на какую-то Тонку Бабич, по голосу которой сразу было ясно, что она не с их острова. По ночам я не спала. А днем вместе с другими участниками «кольца любви»[12] орала перед армейской казармой города. Мы, женщины и мужчины, кричали и требовали, чтобы из комендатуры вышли эти поганые сопляки, солдаты поганой ЮНА. И тогда мы им покажем! И тогда мы их порвем! Если бы я могла, я бы тогда всем этим ребятам собственными руками свернула их поганые тонкие югославские шеи. Свернула бы шею, подняла мертвое тело повыше и прокричала бы на все Корзо: «Смотрите! Смотрите, на что способна Бабич с Корчулы!» Но проклятые солдаты все никак не выходили. А конкретно в тот день я чуть не обосралась. Мы там уже долго стояли и орали. Глаза у всех вытаращенные, рты разинуты. Давка была страшная, мы там были как шпроты в консервной банке. Из орущих ртов воняло: и от курильщиков, и от тех, кто не чистит зубы, и от диабетиков. От диабетиков всегда несет чем-то совершенно особенным. Ну, в общем, мы митинговали. И вдруг прямо передо мной возникло лицо одного очень приличного господина. Я почувствовала запах готье. Готье я знаю отлично. Так пахнет от Кики.
— А вас я знаю, — прорычал он.
Вот тут-то я чуть и не обосралась. Да еще так, как никогда в жизни. Что если он меня схватит за горло? Куда бежать?! Ладони у меня стали холодными и влажными. Во рту пересохло. Да. Вся жизнь промелькнула у меня перед глазами. Как я прыгала в море в Увале, как моя бабуля ела яблоки, как было видно по ее тонкой шее, что кусочки проходят вниз через горло, как я познакомилась с Кики на Слатине, когда я упала и ободрала колени и порвала ажурные чулки. Как Кики меня трахал на пляже в Опатии, в первый раз, а я рычала. Он думал, что это от дикой страсти, а мне просто в задницу вонзился осколок разбитой бутылки. Как я лежала на животе на теплом песке, а Кики извлекал из моей задницы этот осколок. Как я забыла, каким было это первое траханье, потому что впечатления от него смешались с впечатлениями от осколка пивной бутылки. Как моя Аки пошла в школу. И как она боялась заходить в класс, хотя ей было уже семь с половиной лет, и как только она одна плакала. И я пошла с ней. На каждой парте лежали полевые цветы. Для этих детишек. И я плакала, и плакала, и плакала. А потом я вспомнила, что никогда не обнимала мою старуху. Что я должна обнять ее несмотря ни на что, обнять и поцеловать. До смерти. Моей, конечно. И дальше мне пришло в голову, что я люблю Кики, но уже много лет никогда не говорю ему этого. И я захотела сказать всем этим соплякам из комендатуры: «Сопляки, не бойтесь, я никому из вас не сверну вашу югославскую шею», — и тут я вспомнила, что вышла из дому в черном лифчике и белых трусиках и в драных черных колготках под брюками. И меня разденут в морге перед вскрытием и скажут: смотри-ка, у этой вонючей сербки не нашлось белого лифчика…
— Вы меня не знаете, — сказала я ему.
— Знаю, — сказал Готье весело, — вы мама девушки моего сына.
— Нет, — сказала я весело, — я сама девушка вашего сына.
И мы улыбнулись друг другу. А потом опять заорали.
Так на чем я остановилась? Да. Я ужасно нервничала. И поэтому мы переселились к Элле. Аки отправили к моей старухе, в Увалу. Во время войны у моей старухи никогда не было проблем типа «четницкая шлюха». Странно. И у Аки не было. Только у меня. Элла снимала жилье в районе Брда. Там плохие квартиры. Сборные дома, из готовых элементов. Тонкие стены, Даже не знаю, как вам это описать. И еще: в те годы у всех молодых семейных пар были двуспальные раскладные диваны производства «Горанпродукт Чабар». Обитые неокрашенной рогожкой. Это выглядело очень классно, отвязанно. Но на них было невозможно спать. Тем не менее мы с Кики улеглись на разложенный диван. У Эллы я чувствовала себя в безопасности. Только не спрашивайте почему. Не знаю. По ночам я больше не пила апаурин и не прислушивалась к звукам шагов на лестнице. Но зато я слышала, как Элла и Борис трахаются. Каждую ночь. Борис хрюкал. Как кабан. То есть это я предполагаю, что такие звуки характерны для кабанов. Я не могу знать это наверняка, я же не какой-нибудь вонючий охотник, который бродит по лесам и выслеживает кабанов. И за грибами я не хожу, как моя крестная, которая боится медведей и поэтому каждые пять секунд свистком подает сигналы крестному. А он от этого просто звереет. Потому что ненавидит звук свистка и не боится этих ёбаных медведей. Элла испускала высокие горловые тона. Как птица, которая одной тонкой лапкой попалась в силок. Если, конечно, у птиц в такой ситуации это принято. А потом шептала: «Тише, тише…» А потом снова хрюканье кабана и писк птицы, попавшей лапкой в силок… Как-то ночью я схватила Кики за член. Он ведь все это время не трогал меня, с пониманием относился к моему психологическому состоянию. «Не хочу тебя насиловать» — так говорил мне Кики. И вот как-то ночью я схватила его за член. И мы с ним потрахались. Я не кончила, но рычала и громко стонала. Просто так, назло всем. Пусть слышат, как вспарывает их хорватский воздух наш сербский рык и стон. И что я за глупая корова, да, глупая, глупая корова…
Когда я познакомилась с Мики? Как? Где? Хорошо ли он ебётся? Как это так, что мне уже столько лет, а ему на двенадцать меньше? Женат ли он? А дети? А не пидор ли он? Где мы будем жить?.. Ну что за вопросы! Что за банальные, глупые вопросы? Ну-ка давайте я вас порасспрошу. Изменяете ли вы вашему мужу? Может ли кончить ваша любовница? Почему ваши взрослые дети до сих пор по ночам писаются в кровати? Почему дочка у вас потаскуха? Как это вы ничего такого не знаете, когда это известно буквально всем? Почему вы платите по двести евро за каждый экзамен вашего сына? Почему вы ебёте лучшую подругу своей жены? Почему вы на весь свет пердите, что вы хорват, а на самом деле вы вонючий муслик? А хорватский паспорт получили только после того, как жирный, вечно пьяный поп с Истры покрестил вас за пятьсот евро плюс обед в ресторане его родного брата. И вы, Хаджиселимович, стали хорватом. Говно. Говно. Говно. Почему вы так любите рыться в чужих жизнях? Почему не приведете в порядок свою собственную маленькую ёбаную жизнь?! Говно любопытное! Ладно, хрен с вами! Сегодня ночью у меня прекрасное настроение. Я отвечу на все ваши вопросы. Эти старики в телевизоре. Это просто жуть. Журналистка сует им микрофон прямо под нос, а сама ненавязчиво, как бы спонтанно, пускает слезу за слезой. А камера показывает ее слезы крупным планом. Вот блядь! Лживая блядина! Плачет! Для репортажа. А намазана так, что слезы прямо по краске катятся. И хоть бы что. Даже глаза не краснеют. Остаются красивыми и блестящими. Ее грусть ненавязчива. Она тонкая. Благопристойная. Хорватская грусть. Когда я вижу такую гадюку, мне даже приятно, что я сербка. А не такая, как она, слюнявая хорватка. И мне приходит в голову, что эта гадюка, может быть, на самом деле такое же, как я, сербское или другое говно, а вовсе не коренное население, которое тоже говно, и мне делается легче, В общем-то эта проблядь зарабатывает свой хлеб тяжелым трудом. Репортеры. Вы считаете, что репортеры это герои. Они снимают на линии фронта. Они часто отдают свои жизни. Благодаря им многое изменилось. Если бы не репортеры, то здесь бы еще было… Ну что вы за глупые макаки! Что бы здесь такое было, если бы не было репортеров? Какой бы была моя жизнь, если бы не было репортеров? Я вам скажу, ослы тупые, она была бы такой же! Такой же! Готова поклясться вам сербским членом моего отца Живадина, что репортеры никогда ничего не могут изменить! В смысле, к лучшему. Никогда! И ничего! Вы считаете, что лучше бы мне помолчать! Что такого не стоит говорить! Репортеры всемогущи! Уверены в себе! У них сила! И с ними нужно поосторожнее! С улыбкой! А как они узнают, что я о них думаю? Как? На дворе глухая ночь. Это останется между нами — вами и мной. Вы же не станете об этом трубить. Никому не расскажете? Я буду очень рада, если не расскажете. Я была бы очень рада, если бы вы оказались головой без языка. Так в Далмации называют людей, которые умеют помалкивать. Не трещат на всю округу. Людей, которые умеют хранить тайны. Их поэтому и называют «голова без языка». Вот отличное выражение! Как это прекрасно, прекрасно, прекрасно сказано! ОК. Вы сейчас скажете, что я язык без головы. Потому что все время трещу. Ладно. Мне нравится и «язык без головы». Просто супер. Супер! У меня есть собственное мнение о репортерах. Я знаю, что они самое настоящее говно. Но у меня не хватит духа встать посреди площади Бана Елачича[13] и начать пиздеть на эту тему. Просто не хватит духа. Репортеры! Дешевки! Говнюки! Страна находится в тотальной жопе. Мрак и тьма. Голод и скандалы. Вы думаете, это из-за войны? Да ни хуя не из-за войны! Вы уверены, что это вспыхнула огнем тлевшая пятьдесят лет ненависть между сербами и хорватами? Неплохое слово «тлевшая»! Неплохое! И вы верите в этот рассказ о тлевшей ненависти?! Значит, я, сербка, пятьдесят лет ненавидела вас, хорватское отродье, а теперь за все отыгралась? Только не на том футбольном поле. Значит, я, получается, агрессор, но агрессор, у которого нет никаких шансов, потому что со всех сторон вокруг меня благовоспитанные человеколюбцы. Если бы я оказалась в Белграде, то ела бы мясо хорватов без хрена! Кстати, от хрена у меня всегда обостряется геморрой. Ладно, что с вас взять, не такое уж вы говно. На самом деле вам насрать, кто меня тогда сделал. Живко или Анте. Вам же журналисты объяснили, кто я такая. А журналистам на меня тоже насрать. Они не те люди, которые обо мне хоть что-то думают. И они не люди, которые неправильно думают. И они не люди, которые вообще думают. Они просто наемная рабочая сила. Что хозяин скажет, то для них и закон. У репортеров нет денег; будь у них свои деньги, машины, квартиры, дома, яхты, хрена лысого они бы поставили все это на карту ради того, чтобы распространять в мире истину. Вы следите за тем, что я говорю, вы, придурки с промытыми мозгами? Этим парням и тёлкам кто-то платит. Чтобы они поднимали панику и раздували скандалы. И тогда у вас на меня встает. И вы начинаете меня ненавидеть, хотя я ни в чем не виновата и никогда, никогда, никогда, никогда не видела этого проклятого, проклятого, ёбаного Живко! Чтоб его бродячие псы заебли! И мою бабулю Живадинку! Бабку! Бабку Живадинку! Бабуля — это мама моей мамы. Вот! Видите! Репортеры! Репортеры в Хорватии! В Хорватии у каждой газеты есть хозяин. И свои священные коровы. Нет ни малейшего шанса, чтобы репортеры газеты «Восток» опубликовали материал о том, что политик изнасиловал пятилетнюю девочку, если этот самый политик их священная корова. Но те же самые журналисты с радостью напишут про то, как девочку изнасиловал кто-то другой, какой-то зверь из соседней клетки, хотя он и не думал ничего такого делать. Смекаете? Они нахерачат что угодно, если это им выгодно. Вот эта гадина на экране. Какого хрена она там плачет? Из-за дрожащих стариков, которые все потеряли во время войны? Да она эту войну в гробу видала. Если бы не война, ее тупая физиономия никогда не попала бы на экраны. Когда идет война, когда все вокруг одно дерьмо, шефам срочно требуются глупые физиономии с огромными глазами, полными неиссякаемых слез. И они их находят. И их красивые ротики вываливают на нас всякую хуйню. Я на такое не покупаюсь. Эта блядина может хоть вся превратиться в море слез. Она может излить свои прекрасные глаза прямо себе между ног. Мне на это плевать с высокой башни. Я ей ни за что не поверю. И не стану включать звук. Реви, сучка, без меня! Вижу, вы меня не вполне понимаете. Считаете, что я преувеличиваю. Что это происшествие, ну, сегодня утром, вывело меня из равновесия. Вы не в своем уме! Это же не первое ДТП в моей жизни. Повторяю, машина врезалась в меня сбоку и ебанула меня в левую руку, а не в голову. ОК. Не понимаете? Ладно, давайте попробуем с другой стороны. Возьмем американов. Они во всех газетах. На экранах всего мира. Все международное сообщество говорит о несчастных талибанках. Каково им под паранджами. И в тапочках на ногах. Весь мир, весь, весь, весь мир говорит об этом. Как американы пошли воевать, чтобы освободить талибанок от паранджей и тапок. Чтобы талибанки могли шагать свободно и в чем хотят топотать толстыми пятками. Пусть эту хуйню проглотит кто-нибудь другой. Я на все это кладу настоящий сербский член, которого у меня нет. Если верить писанине репортеров, то получается, что американы — это борцы за свободу. Какой пиздёж! Получается, они приходят и вытряхивают эту свободу из своего хуя? Идем дальше. Но только не спеша, чтобы вам все было ясно. Вин Ладен разрушил их «близнецов». Трудно поверить, но нам в мозги вдувают именно это. У американов есть и ЦРУ, и ФБР, и спутники, и все что хочешь. Вот, к примеру, я сейчас пёрну, хотя я не позволяю себе пердеть в кровати, ну разве что только когда Кики крепко спит, тут я могу тихонько пёрнуть… да и то тут же поднимаю одеяло и проветриваю. Понятно… Но так, для примера, вот стоит мне сейчас здесь пёрнуть, как ёбаные американы тут же это где-то зарегистрируют. И где-то будет записано: «Тонка, дочь (надеюсь, уже покойного) Живко Бабича (разрази гром его мать Живку, если ее звали или зовут Живкой), пёрнула в…» И запишут точное время. Въезжаете? А про то, что готовится нападение на этих их ёбаных «близнецов», они, выходит, не знали?! Не знали?!! Я вас умоляю! Что вы так задышали? Что вы так возмутились? Вы же кретины! С промытыми мозгами! У вас ботва в головах! Вы верите репортерам! Да! Теперь сделайте глубокий вдох! Да! Я совершенно не сомневаюсь, американы принесли в жертву несколько тысяч своих же американов, чтобы оправдать свое нападение на талибанское отребье. Что им там нужно, нефть или какая другая херня, я не знаю. Но в том, что это никакая не борьба за свободу несчастных женщин, я абсолютно уверена. Вам кажется неправдоподобным, что американы погубили своих граждан. Американов. Оп-па! Оп-па, дамы и господа! А кого же еще?! Венгров? Кого приносят в жертву политики, чтобы поднять на ноги тупой народ? Своих граждан! Которые им ни с какой стороны не «свои» граждане. Они им просто граждане. Народ. Стадо скотов, электоральная масса. Мясо для пушек и мин, пассажиры для боингов с пилотами из Аль-Каиды. Пять тысяч американов отправилось на суд Божий. Остальные опизденели. И этим остальным политики урезали все права, а несколько тысяч из них отправили хрен знает куда срывать с талибанских женщин чадры. Въезжаете? Ни хера вы не въезжаете. Так и я бы не въехала, если бы моего отца не звали Живко. Если бы моего отца звали Хрвое, я тоже не въехала бы. Я бы не учуяла жертву. Жертву может учуять только жертва. Я не жертва? А что они с нами делали?! Еще раз говорю вам, оставьте меня в покое. Какая связь между мной и «ими»? А какая связь между талибанками и американами? Связи нет, но она есть. Я, дочь покойного, как я надеюсь, Живко, и ёбаная талибанка под чадрой — мы с ней одно и то же. И мы одно и то же с тем американом, который хрен знает как далеко от своего дома срывает с талибанских женских ножек их ёбаные тапочки. Кто-то от нашего имени играет в свои игры. Ради нашего блага срывает с кого-то чадру. Но вы, недоумки, даже не подозреваете, что мы все под чадрой. Под чадрой эти ёбаные талибанки. Под чадрой покойные американы из «близнецов» и все живые американы — и в Афганистане, и в Ираке, и в Иране, и в Боснии, и в Хорватии, и в Гватемале, и на Филиппинах, и в Италии. Под чадрой и я, и вы, глупые мартышки, ни хрена ни в чем не понимающие. «А есть ли кто-нибудь без чадры?!» — слышу я, как вы орете, полные надежды. Есть. На белом свете существуют, может быть, сто или сто пятьдесят дрочил без чадры, которые держат в своих лапах наши жизни. Пять кокакол ебут весь мир. А все остальные — талибанки.
Что-то я потеряла нить. О чем вы меня спросили? А, да, когда Мики меня в первый раз трахнул. А вы сами-то когда трахались в первый раз? И? Как было дело? Забыли. Ясно. Сейчас я вам напомню. Дело было никак. Она, вероятно, не кончила. Она наверняка не кончила, если ее трахали вы. OK. ОК. Не сердитесь. Это была просто шутка. Просто шутка. Значит, первый раз? Я бы это лучше пропустила. С другой стороны — почему? Ночь длинная. До семи утра еще далеко. А может, и не далеко. Меня развлекает то, что я не говорю вам, который час. Именно развлекает. Так что вы понятия не имеете, когда я схвачу Мики за яйца — через полчаса или через шесть часов. Супер. Прекрасно. Я съела все нестле. Пять нестле. Если бы вы знали, сколько у меня уходит времени на то, чтобы съесть одну, а потом умножили бы на пять, то смогли бы узнать, который час. Да! Но вы не знаете, когда я начала. Ха! Первый раз? К Мики я попала вместе с Эллой. Помните Эллу? Элла это моя самая близкая подруга. Мы с ней вместе пришли к нему в контору. Мики самый лучший адвокат в городе. По разводам. У них специализация. Те, которые супер по разводам, понятия не имеют об уголовном праве. Убийцу защитить не смогли бы, хоть тресни. Но могут вытянуть из мужа последнюю куну[14]. И наоборот. Те, которые могут за три дня извлечь убийцу из заключения, не в состоянии получить от мужа и трех кун. Правда, из родственников убийцы способны вытрясти гору денег. Но только пока клиент сидит. А стоит ему выйти на свободу, тут уже трудно. Даже самый жуткий убийца, оказавшись на свободе, считает себя невиновным. Короче, мне неохота рассказывать вам, зачем Элла пришла в контору к Мики и почему я осталась ждать в приемной. Не люблю болтать о чужих интимных глупостях. И я вам ничего не скажу, имейте в виду. Я — голова без языка. Когда Элла и Мики вышли из его кабинета, я посмотрела на Мики. Не знаю, сколько лет вашему мужу. Может, тридцать, а может, шестьдесят. Кики… Ладно. Я поняла. Кики вас не интересует. Меня тоже. Но Мики! Его контора находится на Корзо. Нет, так дело не пойдет, я все время перескакиваю с Эллы на Мики, с Мики на Кики, с Кики на контору… Попробуем по-другому. Как Мики выглядит? Ну, адвокаты, они все очень похожи. Темный или светлый дорогой костюм, канали, зенья, босс или что-нибудь еще, контрабанда. Светлая рубашка, куплена в магазине. Шелковый галстук, контрабанда. Туфли пачотти, контрабанда. Дорогой портфель бридж, примерно за тысячу марок, а может и дороже, куплен в магазине. Тщательно выбриты. Дорогой парфюм, армани, или босс, или… куплен в магазине. Ну вот так, в общих чертах. Это был Мики. И если от моих отнять двенадцать, то попадете в точку. Но вы не знаете, сколько мне! Ха! И еще раз ха! В его кабинете пестрота. Да, это именно то слово. На стенах картины. Ботеро. Репродукция, разумеется. Ну что вы за мудилы! Ботеро это, может быть, самый дорогой из живых художников. Откуда я знаю? Читайте глорию. Потом Войо Радоичич и Дамир Стойнич, это, конечно, оригиналы, и… Но вам это неинтересно. И еще в его кабинете большое кожаное кресло. В приемной обычные стулья, серые. На самом деле это кресло только выглядит как кожаное, а вообще-то оно не кожаное. Откуда я знаю? По запаху. Я знаю запах кожи. Короче, у него там кожаное кресло из отличной имитации кожи, не следовало бы мне говорить «кожаное», надо бы сказать просто: «Из отличной имитации кожи», потому что если это имитация, то при чем здесь кожа?.. Знаете что, не мелочитесь, ваш пиздёж действует мне на нервы. Если вы хотите, чтобы я следила за каждым словом, если вы собираетесь на каждом шагу меня исправлять, я разозлюсь. И не расскажу вам, как мы с Микки в первый раз потрахались. Мики у себя на столе держит фотографию жены и дочки. Жена у него молодая. Худая, длинные волосы медового цвета. До плеч. А у малышки волосы совсем белые. Краска такого цвета называется «белый детский». Нет, к детям это не имеет отношения. Я как-то раз покрасилась в блондинку. Именно в этот цвет, белый детский. Мне очень захотелось стать цвета белый детский. Парикмахерша меня уверяла, что получился именно белый детский. А потом я пошла на похороны секретарши генерального директора Ядроплова[15]. Я там работала. Я стояла в третьем ряду от гроба и плакала. А у меня за спиной какой-то тип сказал какому-то другому типу: «Эту желтую я бы трахнул». Так и сказал: «Желтую». Имея в виду меня. И до меня доперло, что никакая я не белый детский, что парикмахерша меня наебла, и я тогда поменяла и парикмахершу и цвет. Теперь хожу к Александре. Но у малышки Мики волосы именно этого цвета, белый детский.
Я не утверждаю, что прочитала много книг. Не утверждаю. И не скажу, что читаю подряд все номера лизы, милы, глории, моей тайны, моей грусти, моей истории. Но я их читаю. И читаю любовные романы. Во всей этой дребедени траханье происходит в финале, после долгих страданий, сомнений, угрызений совести. «Угрызения» — вот прекрасное слово! В любовном романе жена главного героя настоящая гадина, а девушка, которая мечтает трахаться с главным героем, невинна. Гадина к концу книги погибает в автомобильной катастрофе, и это открывает невинной девушке дорогу к сердцу ёбаря. Да, а у ёбаря есть дочурка с волосиками бейбиблу, то есть белый детский, причем эта малышка с волосиками бейбиблу еще до смерти матери гораздо больше любила эту домашнюю помощницу, или няню, или компаньонку, кстати, слово «компаньонка» мне очень нравится; итак, она ее любила больше, чем свою мать-курву. Короче, курву хоронят, малышку укладывают в кроватку, компаньонка читает ей сказку про семерых козлят без волка, потому что ребенок только что потерял мать, какую-никакую, а все же мать, поэтому без волка, чтобы малышка от страха не обосралась, а потом эта домашняя помощница и ёбарь, которому принадлежит половина их городка и две мультинациональные компании, пьют перед камином драй шерри, он рюмочку, а она только одну каплю, потому что не только невинна, но еще и не пьет. Атмосфера скорби. Ведь они только что вернулись с похорон, пусть это были похороны курвы, но все-таки похороны, однако чувствуется, ну просто витает в воздухе, что когда скорбь уляжется, хоть скорбят они не из-за курвы, а просто неудобно перед людьми, жителями городка, так вот, когда скорбь уляжется, чувствуется, что эта парочка потрахается. Вот. Так это бывает в приложениях к глории, миле, регине, лизе…
Но я не компаньонка, а Мики не муж курвы. Его жена совершенно нормальная женщина, которая работает в страховой конторе «Альянс» и которой никогда нет дома. Это же адский труд. При нашем общенациональном безденежье уговаривать людей застраховать квартиру, дом или старый холодильник. Так, с этим все ясно. Итак, его молодая жена Анна не курва, я не компаньонка, а сам адвокат Мики не в состоянии заплатить взнос этим бандитам из адвокатской гильдии, потому что у будущей разведенной пары нет денег даже сейчас, до развода. А уж тем более после. Так что жизнь не сулит Мики путь, усыпанный лепестками роз. А трахались мы с ним первый раз так. Я однажды пришла к Мики без Эллы. Может, я вам это уже говорила, а может, и нет. Я регулярно бываю у Александры, это моя парикмахерша, зубы у меня фарфоровые, я постоянно улыбаюсь и смеюсь, я вообще-то веселая женщина, а людям нравятся веселые женщины, люблю поболтать опять же, людям нравятся те, у кого язык без головы, и кроме того, у меня потрясающее белье. Когда Кики попадается хорошее белье, он всегда первым делом откладывает для меня бюстгальтер 85С и шелковые трусики. В тот день у меня были свежепокрашенные волосы. Накануне я как раз была у Александры, а волосы всегда гораздо лучше лежат, ну ладно, не цепляйтесь, выглядят на следующий день. Черное белье, шелковое, но очень упругое боди, черные колготки, не толстые, но все же позволяющие скрыть капилляры, и черное платье ивсенлоран. Вы ни черта в этом не смыслите, поэтому думаете, что дорогие платья выглядят гламурно. И что их можно надевать только на премьеры или на день рождения Президента. Это ложь, господа! Грустно быть бедным и никогда не иметь дела с дорогими платьями. Если бы вы не были тотально в жопе, а вы именно там, если бы у вас были деньги и вы могли бы купить жене такое платье, какое в тот день было на мне, вы бы знали, что его можно носить и в полдень, и в полночь. А на вешалке оно выглядит жалко, как халатик, который я надевала на уроках труда, когда училась в гимназии в Опатии. Когда? Тогда! Все платье держит одна пуговица. Одна. И вот я встала перед столом Мики, а он сидел в том самом кресле, которое считал кожаным, пока я не сказала ему, что это не кожа, а просто хорошая имитация. И я расстегнула эту одну пуговицу. Единственную. И блеснула перед ним во всей красе, а точнее, в бюстгальтере, боди и колготках. Да. Тут, правда, мне показалось, что я промахнулась. Кики привез мне красный пояс с резинками, на Рождество, и красное белье, и красные колготки, и может, было бы лучше мне их надеть. Это более секси. Сексовее. Но я не надела. Подумала, что красный гарнитур может показаться слишком агрессивным. Я не хотела, чтобы Мики подумал, что я заранее все спланировала. Хотела, чтобы мое раздевание выглядело спонтанным. Как будто мне ни с того ни с сего гормоны в голову ударили. Сейчас я вам кое в чем признаюсь. Хотя и не стоило бы. Мне гормоны вообще никогда в голову не ударяют. Ни спонтанно, ни запланированно. У меня больше нет гормонов. Или есть, но я их не чувствую. Если взять в целом, секс я ебать хотела. Хм, что это у меня за словосочетание получилось: «секс ебать хотела»? Что за конструкция такая? Да. То есть я говорю, что секс я ебать хотела, а на самом деле хочу сказать, что ебаться мне вообще не хочется. Очень поэтично! Но тогда какого хрена я разделась перед чужим мужем и отцом малолетней девчушки с волосиками бейбиблу? Не знаю. Понимаете? Не знаю. Речь определенно не шла о безумной любви. Или бешеной страсти. Или о желании обладать молодым, мускулистым, худым, крепким и новым куском мяса. Ничего похожего. Я просто разделась, и все. Без какого-нибудь особого желания и специальной цели. Со скуки или для разнообразия, а может, из любопытства. Мне нравится смотреть на мужчин, когда у них встает, а глаза приобретают какой-то мутный, шелковистый блеск. Понимаете, он смотрит на тебя и тебя не видит. Он весь сам не свой, и всегда, когда мужчина так на меня смотрит, я думаю, что в такие шелковистые, мутные моменты он мой. Потом, позже, десять минут спустя он захрапит, или пёрнет, или пойдет в ванную мыть член, и тогда он ваш. Или свой. И тогда он больше меня не интересует. Вы меня понимаете? Мне просто захотелось, чтобы глаза Мики стали шелковистыми, мутными карими глазами. Чтобы он перестал быть адвокатом и стал животным у меня между ног. Не зверем. Звери меня раздражают. И все их штучки. Когда рвут белье, во все стороны летят трусики и трусы-боксеры, застежка на бюстгальтере сломана. Между прочим, хороший бюстгальтер стоит кучу денег. И я не верю в такую страсть, которая способна помешать расстегнуть бюстгальтер спокойно. Разве что в кинофильме. Но фильм это не жизнь. Кроме того, фильмы делают мужчины. Траханье на экране это просто пища для дрочил. У меня есть один знакомый. Он ненормальный, просто псих ненормальный. Любит порнуху. Он по своей работе ездит по всему миру и везде покупает порнуху. И привозит домой. А жена у него лучше умрет, чем произнесет такие слова, как «пизда» или «хуй». Ни за что. Тоже ненормальная. Невинная девушка, у которой двое взрослых детей. А он, значит, собирает порнофильмы. Он мне рассказывал, как это выглядит во франкфуртском аэропорту. Там есть какие-то кабины. Заходишь, садишься перед экраном, близко, так что тебе кажется, что твой нос прямо в здоровенной пизде. Ну что-то в таком роде. Короче, этот мой знакомый каждый раз, оказавшись в этом аэропорту, перед полетом сует свой нос в пизду. Мужики просто ненормальные. Скажите, какой женщине пришло бы в голову стонать в такой идиотской кабине где-то в аэропорту? В ожидании рейса? Любая нормальная женщина боится летать, и ясно, последнее, что пришло бы ей в голову, так это перед посадкой в самолет пялиться на здоровенный член на здоровенном экране, чтобы подготовиться к полету. Мой френд мне поклялся, что там, в кабине, никогда не дрочит. Просто смотрит фильм. Поклялся мне своими в то время маленькими детьми. Верю. И не потому, что он поклялся. Терпеть не могу людей, которые постоянно клянутся своими детьми, будто дети это нечто уже само по себе святое, и раз уж ты поклялся детьми, то это самая страшная клятва. Да все мы, у кого есть дети, знаем, что это за святыня для нас. Ни хрена! Ни хрена! Это постоянная забота. И только забота. Ребенок это зверь, который тебя сосет, сосет, сосет, сосет. Пока не высосет. Пока ты не превратишься в ракушку без мягкого мяса между створками. И еще не хватало клясться чем-то, что тебя сосет и сосет и постепенно превращает в нечто, что уже не ты, что просто твоя скорлупа, пустой домик, в котором нет больше улитки, нет тебя, причем нет не только в домике, но и вообще нигде нет. Да как можно клясться ими и рассчитывать, что тебе кто-то поверит!! Дерьмо вонючее. Клясться нашими главными врагами, словно они это самое ценное, что у нас есть!!! Дерьмо! Все мы ненавидим своих детей. Наши дети нас наебли. Разочаровали. Обманули наши надежды. Наши дети это все то же самое, чем когда-то были мы. Или трусы, или наглецы без мозгов. Или молчаливое дерьмо, забившееся в уголок, или отважные дрочилы, которые считают, что борются за права человека. Но и то и другое — один хрен. И вы, и я, и они — все мы и то и другое. Обосравшиеся от страха обезьяны, которые дрожат перед любым полицейским, или борцы за профсоюзные права, которые на площади Бана Елачича поднимают над головой картонки с лозунгами. Требуем справедливости. Ждем справедливости. Это наши дети. Вечно чего-то ждут. Такие же, как мы, только моложе. Говнюки, которые живут в трудное время и не хотят сами расплачиваться за свои ошибки. И за них расплачиваемся мы. Своими пенсиями, квартирами, издерганными нервами… Надо выпить апаурин. Три зеленых. Проглочу. Без воды. Кики не знает, что у меня есть шесть упаковок апаурина. Если узнает, будет скандал.
Один раз я выпила целую пачку. Хотела покончить с собой. Да. Из-за одной жуткой гадости. Вы никогда не хотели покончить с собой? Ну что вы за лживые дряни! Почему ты хотела покончить с собой? Что это была за жуткая гадость? Что вызвало такой жуткий взрыв в твоей голове? «Жуткая». «Жуткий». «Жуткое». Мы все время думаем о чем-то жутком. Жуткие причины, жуткая гадость. А почему человек не может покончить с собой просто из-за обычной гадости? Или вообще безо всякой гадости? Ради собственного удовольствия? Вы об этом никогда не задумывались? Супер. Вы считаете, что вы в состоянии задуматься, что у вас есть ум. Это супер. Вы считаете, что каждую попытку самоубийства нужно объяснить. Порыться как следует. Найти причину. Их много. Разных. Тяжелое детство. Мать-шлюха. Отец изнасиловал тебя в твой шестой день рождения. Твоего отца зовут Живко, а ты живешь в Хорватии. Война. Нищета. Денег нет ни на зубного, ни на электричество. У твоего ребенка лейкемия, а тебе не на что купить цитостатик! Нужно найти причину! Всегда есть причина, почему человек хочет покончить с собой. А вы знаете, что меня мучает всю жизнь? Где найти хоть одну-единственную ёбаную причину для того, чтобы жить. Чего ради? Посмотрите на меня. Я родилась в Опатии. Моя старуха не хотела еврейскую квартиру. Она вообще никакую квартиру не хотела, поэтому мы провели жизнь в подвале. Четыре последних школьных года я проходила в чужих платьях и без второго слева вверху. Я никогда не смеялась из-за этого второго, которого у меня не было. Я поступила в педагогический. Там учились или умственно отсталые, или бедные. Три года я ходила по Корзо в одной и той же черной юбке, которую на заднице приходилось мочить водой, потому что она стала блестящей, как яйца у кобеля. С Кики я познакомилась, когда училась в этом сраном педагогическом, и мы с ним поженились, и… И так далее. А мой Кики неудачник. Если не продаст какой-нибудь контрабандный костюм, так и денег у него нет. А Аки переползает с курса на курс с трудом, как кошка со сломанной лапой, потому что мы не можем платить по двести евро за каждый ее экзамен. Вот я о чем вам говорю. И вас, и меня нужно было бы спросить, почему мы до сих пор не покончили с собой. Я, по крайней мере, попыталась. Но для этого надо иметь храбрость, а у вас, дрочилы, ее нет. Я проглотила гору этих таблеток и заснула. И проснулась в больнице. Кики плакал рядом с моей кроватью. Просто рыдал. Мне это было странно. Почему Кики плачет? Почему он меня не понимает, мы ведь с ним из одного фильма. Если он меня не понимает, то кто меня поймет? Понимаете? А он меня все время спрашивал: «Почему, почему, почему…» Я тогда поняла, тогда, в первый раз, что мы с Кики — это два разных мира. Что наш с ним фильм вовсе не «наш», а только мой. А Кики из какого-то другого фильма. Понимаете? Потому что если бы это было не так, то он бы меня не спрашивал: почему, почему, почему… Как он вообще мог задавать мне этот вопрос? Меня удивляет, меня просто сводит с ума вопрос, почему все хорваты, все граждане Республики Хорватии до сих пор не покончили с собой?! Какого хера они ждут? Чего ждут? Эй вы, почему вы не кончаете с собой? Разве не безумие, безумие, безумие жить, надеясь только на то, что Бог пошлет нам легкую смерть? Разве это не херня собачья? Херня! Просто вы об этом не задумываетесь. Вы тупы как бараны, и только поэтому не кончаете с собой. Что такого особенно прекрасного происходит с вами в этой жизни? Что хорошее ждет вас впереди?! Новые выборы?! Вы этого ждете?! Ха-ха-ха-ха… Я бы умерла со смеху, если бы вообще в принципе смеялась. Но я не смеюсь, из-за того своего второго левого сверху, про который мне кажется, что его у меня до сих пор нет.
Что-то я устала, но все равно спать не хочется. Хочу дождаться звонка в дверь не засыпая. Да. Лежу накрашенная: жидкая пудра, румяна, на ресницах тушь; я просто прыгну из пижамы в джинсы. И схвачу Мики за яйца. Я собиралась левой рукой, но что-то левая у меня все больше и больше болит. Из-за той аварии утром. Мне было жалко, когда они меня разбудили, там, в больнице. Должно быть, так себя чувствует каждый, кто выпил кучу таблеток или другую дрянь. Стоит тебе только, мне нравится здесь это «стоит», так вот, стоит тебе только попытаться что-то изменить в жизни, а они тут как тут и уже промывают тебе желудок. И проводят с тобой беседу. Со мной тогда беседовала молодая докторша. Большие синие глаза, стройная, белый халат. Высокая.