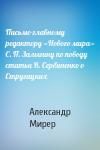Судите сами: «Гадкие лебеди» с 1966 по 1987 год были под абсолютным запретом. За чтение и хранение книги в издании одиозного «Посева» можно было поплатиться; читали ее единицы. В 1987 году ее дал рижский журнал «Даугава», небольшими кусками во многих номерах, тиражом около 35000 экземпляров.
Вопрос: какой процент читателей «Нового мира» мог прочесть роман? Делим тиражи один на другой и получаем ДВА ПРОЦЕНТА без учета того, что «Новый мир» наверняка проходит через большее число рук, чем «Даугава», и что основной тираж этого журнала оседает в Латвии. Еще вопрос: как обязан поступать добросовестный критик в подобном случае? Перед разгромом этики романа? Надеюсь, ответ ясен: дать короткий конспект содержания.
Разумеется, В. Сербиненко этого не делать. Он уделяет книге сотню строк, преисполненных экспрессии, не дающих даже приблизительной информации о содержании, но «сокрушающих», как только что было сказано, нравственное содержание книги.
«Этическому принадлежит существенный примат в содержании» «конституитивном моменте» произведения, писал М. М. Бахтин. В. Сербиненко манипулирует умами читателей, для которых содержание, то есть ЭТИКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ — тайна за семью печатями. Так поступали известные нам критики, когда громили неизданного «Доктора Живаго». Там был нуль процентов риска, здесь — полтора-два, сойдет …
Попытаемся восполнить пробел. В «Гадких лебедях» переплетаются две темы. Одна аллегорическая: в некой стране люди высочайшего творческого накала становятся уродами, отвратительными на вид «мокрецами». Они меняются и внутренне, они не нуждаются в земных радостях, зато умирают, когда их лишают чтения. Их ненавидят и преследуют ура-патриоты и фашисты, их заключают в особом сеттльменте — но военно-промышленный комплекс эксплуатирует их творчество. Это тема трагедии интеллигенции, в разных аспектах соприкасающихся с нашими реалиями. достаточно вспомнить об институтах-«шарашках» Берии, о судьбах ученых, писателей, художников, подвергнутых остракизму. Как бы в напоминание о таком аспекте темы, Стругацкие поручили роль главного героя /и героя — наблюдателя/ ссыльному писателю Баневу, имевшему неосторожность поссориться с «господином президентом». Последний очень похож на Хрущева, а сам Банев — на В. Высоцкого.
Параллельная — нет, все-таки основная тема — дети. Проклятая тема, уже века терзающая мыслящих людей: как сделать, чтобы дети были лучше нас? Как РАЗОРВАТЬ ЦЕПЬ, чтобы им не передавались наши заблуждения и наши пороки? Тема действительно утопическая, в любой серьезной утопии она присутствует; когда-то и Стругацкие дали свою модель разрешения — воспитание вне семьи. Но это именно в утопическом будущем, когда создастся корпус достойных воспитателей, а что делать сейчас, сегодня? Положиться на школу, которая должна растить этих будущих воспитателей? Но там тоже МЫ; Стругацкие демонстрируют это одним штрихом: директор гимназии распутничает вместе с господином бургомистром, и тот кричит ему: «Эй, гимназия, застегнуться забыл!» — в смысле застегнуть брюки.
Так что делать? Положиться на веру и церковь? Скоро 2000 лет от Рождества Христова — проклятый вопрос все снимается. Но ведь невыносимо, выйдите на улицу, послушайте, как и о чем говорят наши дети; спросите, что они читают — по большинству ничего они не читают… Нынешнее отественное безбожие виновато? Перечитайте вопль Достоевского о детях, или всего Чехова — под сенью сорока сороков писали… Проблема мировая, на улицах протестантско — католического и иудейского Нью-Йорка те же дети, что в Москве. Неужели мы должны ждать еще века?!
Стругацкие не социологи и не проповедники — художники.
Они не предлагают панацей, а ставят нас перед проблемой, которая мучит их — если судить по всему их творчеству — невыносимо. Они хотят, чтобы мы, читатели, осознали важность проблемы и начали что-то делать, начав со своих детей. Чтобы лучшие из нас меньше думали о радостях земных, оставили служение техническому прогрессу и пошли служить детям, как де лает их герой космолетчик Жилин. Они не читают нам лекций, как поступил бы утопист, не произносят проповедей. Они «просто» соединяют обе темы: могущественные супер-интеллектуалы устраивают для детей отдельный мир, а сами умирают; ИХ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО.
В застойный омут нашего воображения Стругацкие бросают взрывчатку — не идею, а образ: «мокрецы» уводят НАШИХ детей, дети идут за ними радостно, и они правы, ибо мы иного не заслужили… Они идут за теми, кто лучше нас, чище, умнее, образованней. И может быть, невозможная экстремальность та кого образа заставит нас осознать отчаянность ситуации. Это же страшно бесчеловечно — но Боже мой, как скверна должна быть наша жизнь, чтобы умные и самоотверженные люди пошли на такое страшное свершение… «Они ушли потому, что вы им ста ли окончательно неприятны… Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства». Это говорит толпе несчастных родителей Голос; слушайте его, и у вас захолонет сердце. Это — главное, потом вы поймете, когда вернетесь из мира книги к своим детям.