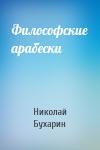«Караул!» — закричит наш солипсист.
Тогда можно проделать другой опыт.
Предложите «неуязвимому» философу не вкушать никаких плодов земных и, исходя из независимости «духа», то есть чистого сознания, отказаться от грубой прозы пищи и питья. Он посмотрит на Вас дикими глазами.
А между тем, ведь, ясно, что с точки зрения его, якобы неуязвимой, позиции всё это — лишь в его сознании, которое не может погибнуть от таких вещей.
Скажут, это грубо. Но, ведь, это не аргумент. А эксперименты эти и реакции на них — аргумент.
И то же будет, если мы потянем к ответу не солипсиста, а, скажем индусского аскета, не приемлющего чувственного мира. Попробуйте отнять у него его скудные пищевые пайки. Он или умрёт (если согласится) или не отдаст их, что более вероятно. Но оба «ответа» будут аргументами за «внешний мир». И никакие хитросплетения мысли, никакие схоластические ухищрения не опровергнут убедительности этих «грубых» аргументов.
Все дело в том, что исходным пунктом является в действительности не «данность» «моих ощущений», а активное соотношение между субъектом и объектом, с приоритетом этого последнего, как величины независимой от сознания субъекта. Тут раскрывается всё значение тезиса Маркса (см. его замечания на книгу А. Вагнера, положение о Фейербахе, и «Немецкую идеологию») о том, что исторически человеку предметы внешнего мира не «даны», как объект мышления, а что исходным историческим пунктом является мир, как объект активного практического воздействия. Процесс ассимиляции[53] (через еду, питье и т. д. ), опосредствованный тем или иным видом производства, есть историческое (а, следовательно, и логическое) prius[54], а вовсе не «мои ощущения» или пассивно-созерцательное отношение между объектом и субъектом. Поэтому практика и аргументы от практики, как это будет подробно показано нами ниже, только с точки зрения интеллектуальной «чистоты», т. е. уродства отъединённого от целокупности жизненных функций, абстрагированного и гипостазиронного[55] интеллекта, не является теоретико-познавательным критерием. Иллюзии субъективного и объективного идеализма[56], отрицание мира вообще и отрицание материально-чувственного мира есть идеологическое извращение, как рефлекс потери связи с практикой действительного овладевания миром, реальной его трансформации[57]. Восточный квиетизм[58] (браманическая и буддийская «нирвана») и скептическая атараксия[59] не случайно совпадает с наиболее глубокими формами неприятия чувственно-материального мира или принципиальных суждений о его непознаваемости, когда все категории бытия превращаются в категории одной кажимости.
В «Феноменологии Духа» Гегеля, в учении о свободе самосознания, автор, анализируя и оценивая стоицизм[60] и скептицизм, дает en passant[61] убедительную критику скептицизма именно с этой точки зрения.
Гегель называет здесь рабским сознанием сознание, находящееся в полной зависимости от жизни и существования. Наоборот, стоическое[62] сознание есть равнодушие самосознания: оно свободно от цепей даже тогда, когда на человека надеты материальные цепи.
«Эта свобода самосознания, когда она выступила в истории духа, как сознательное явление, была названа, как известно, стоицизмом. Принцип его состоит в том, что сознание есть мыслящая сущность, и всякое явление имеет для него существенное значение или бывает истинным и добрым для него лишь постольку, поскольку сознание проявится в нем, как мыслящая сущность» («Феноменология Духа»).
Стоическая невозмутимость духа — «атараксия» (добродетель мудреца, известная и основным восточным философско-религиозным направлениям) имеет, таким образом, основой сознание ничтожности чувственного мира (в большей или меньшей степени). Скептическая философия, которая компрометирует всякое объективное знание, в том числе и уверенность в бытии мира, являются поэтому, как выражается Гегель, рабом по отношению к стоицизму, как господину, освобождая его от привязанности к чувственному, к ценностям вещей и условий жизни. Он разрушает все и всяческие противоположные утверждения, оставляя в неприкосновенности лишь равнодушие сознания, «атараксию».
В «Истории Философии» Гегель считает скептицизм неопровержимым с точки зрения единичного сознания.
«Мы должны,— говорит он.— …согласиться с тем, что скептицизм непобедим, но непобедим он лишь субъективно (наш курсив. Авт.), в отношении отдельного человека, который может упорно отстаивать ту точку зрения, что ему нет никакого дела до философии и признавать лишь отрицание… Его нельзя переубедить или заставить принять положительную философию, точно так же как мы не можем заставить стоять парализованного с головы до ног человека»[63].
Но в «Феноменологии Духа» Гегель со всей силой выдвигает не только соображение о «единичном», но и противоречие между теорией и практикой, словом и делом, столь характерное для всей скептической философии.
Скептическое самосознание «занимается уничтожением несущественного содержания в своём мышлении, однако, именно занимаясь этим, оно оказывается сознанием о несущественном. Оно высказывает приговор абсолютного исчезновения, однако, этот приговор существует и это сознание есть приговор об исчезновении; оно утверждает ничтожность видения, слушания и т. д., но в то же время оно само видит, слышит и т. д. Оно утверждает ничтожество нравственных постановлений и в то же время делает их господами своего поведения. Его поведение и слова постоянно противоречат друг другу, и таким образом оно есть двойственное противоречие, сознание неизменности и равенства себе в полной случайности и несогласии с собою» (Феноменология Духа ).[64]
Но когда эта двойственность в себе сознаёт себя, как двойственность, то есть становится двойственностью для себя, т. е. когда «самосознание» сознаёт свою собственную двойственность, то рождается новая форма сознания, которую Гегель называет несчастным сознанием. Оно сознаёт раскол между теорией и практикой, и практика, т. о., вторгается сюда, как фактор величайшей важности, наряду с дуализмом мира «сущностей и явлений» (об этом ниже). Несчастное сознание, это «несчастное, раздвоенное в себе сознание» (Феноменология Духа)[65].