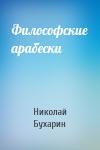Тут несомненный провал, несомненное фиаско, разрушение стройного здания.
Итак, мы знаем уже: 1) что вещи в себе суть причина наших ощущений, 2) мы знаем закон соотношения, т. е. объективное свойство вещей производить определённые ощущения.
Это со стороны объекта. Со стороны субъекта, объективным свойством которого является свойство иметь ощущения, мы видим, что мышление снимает субъективность, понимая её, как таковую.
Но здесь нужно подчеркнуть то, чего нет у Гегеля, что должно быть подчёркнуто марксистской диалектикой. Это — следующее:
Во-первых, то, что понят и фиксирован мышлением субъективизм (относительный!) дальтониста или желтушечного, могло произойти лишь из сравнений «опытов» многочисленных индивидуумов, то есть могло быть «дано» лишь в человеческом общении, продуктом коего и являются понятия, и системы понятий, и наука, как всё более и более правильное отражение объективного мира; во-вторых, то, что понят субъективизм (тоже относительный) родового, общечеловеческого (субъективизма, так сказать, второго порядка) является также результатом кооперации людей и богатейшего опыта сравнений разных организмов, уже и с выходом за пределы людей (невидимые человеком лучи видят, например, муравьи).
Но из всего этого не следует, что в ощущениях — только субъективное. Это — одностороннее и метафизическое воззрение. То же и в феноменах, т. е. в феноменальной «картине мира». Ибо в явлениях является мир: это не самопроизвольное одностороннее в себе бытие человеческого сознания (ни индивидуального, ни общественного, ни ощущения, ни представления, ни понятия первого ранга — феноменалистической картины мира); это — всегда соотношение, связь: никакого бы цвета не было бы, если бы не было объективно существующих световых лучей, никакой бы феноменалистической картины мира не было бы, если бы не было бы мира. Здесь объективное переходит в свою собственную противоположность. Или, как говорит Гегель в «Науке Логики»: «Явление есть не просто несущественное, а обнаружение сущности»[73], т. е., в переводе на наш язык, обнаружение объективного мира в категориях человеческих чувств.
Таким образом, рассматривать ощущения, как только субъективное, вне связи с объективным, нелепо. Эта сторона дела была хорошо сформулирована ещё «Геркулесом древнегреческого мира», Аристотелем, который (в «De anima») писал, что для ощущения «необходимо, чтобы было налицо ощущаемое». То есть, ощущение предполагает внешнее, внешнюю реальность, независимую от субъекта и связанную с субъектом, которую субъект ощущает. Он ощущает её, в нём ощущается она. Ещё резче: у Ильича (в «Материализме и эмприокритицизме») есть формула, касающаяся света: энергия внешнего раздражения переходит в ощущение цвета.
Ergo[74]: материальные лучи такой-то длины и скорости воздействуют на материю сетчатки, нервные токи идут, мозг «работает», инобытием чего является ощущение. Именно поэтому в «Философских тетрадках» Ильич выставляет тезис, что чувства не отделяют человека от мира, а связывают его с ним, приближают его к миру. Здесь взаимопроникновение противоположностей, их диалектическая связь, а не односторонняя субъективность и не абсолютная разорванность объекта и субъекта, не отрицание (как в «Эмпириокритической принципиальней координации» Авенариуса) реальности внешнего мира, якобы не могущего существовать без субъекта. Сама противоположность realiter[75] возникла исторически, когда природа создала, выделила из себя новое качество, человека, субъекта, исторически-общественного субъекта.
Интересен в высшей степени и восьмой троп Пиррона. Он гласит:
«Согласно этому тропу мы заключаем, что так как всё есть в отношении к чему-нибудь, то мы удержимся сказать, каково оно само по себе и по своей природе. Нужно, однако, заметить, что мы здесь употребляем слово „есть“ лишь в смысле „кажется“».
Тут, следовательно, говорится об отношениях в двояком смысле: во-первых, в смысле отношения к судящему субъекту; во-вторых, в смысле отношений между объектами, т. е. об отношении предмета к «другому», к другим предметам или процессам. О первом мы уже говорили. Теперь о втором. Здесь нужно сказать, что вещь в себе кантианская, т. е. «вещь», взятая вне какой-бы то ни было связи с другим, есть пустая абстракция, т. е. абстракция, лишённая всяких конкретных определений, то есть ничто, caput mortuum[76] абстракции, как выражался Гегель. В самом деле, что такое, например, вода вне определённой температуры, давления и других условий? Что такое вода «в себе»? Вопрос нелеп, ибо «в себе», т. е. вне определённых отношений, оно — ничто, leere Abstraktion («wahrheitslose leere Abstraktion»[77], как метко определяет Гегель). «Из того, что воздух, огонь и т. д. ведут себя так-то и так в одной сфере, нельзя сделать никаких выводов относительно их поведения в другой сфере»[78] — как формулирует вопрос Гегель в «Философии Природы». Поэтому, в сущности, нет фактов вне законов и нет законов вне фактов: и то и другое есть единство, ибо закон есть необходимое соотношение, связь чего-то с чем-то, переход одного в другое, становление, превращение и т. д. Потому не физические, химические, органические и т. д. свойства тел выражают отношение: электропроводимость, летучесть, теплопроводность, упругость, тяжесть, плавимость, протяжённость, временность, движение, наконец, даже свойство ощущать и мыслить,— всё это суть объективные свойства соотносящихся тел, законы, как соотношения. «Отмыслить» субъекта можно. Познание, исходя из чувственного, снимает субъективное и первого, и второго и т. д. порядка, приходя к объективным свойствам вещей и процессов, к соотношениям между ними, независимым от соотношения с субъектом. Вопреки эмпириокритикам, бытие природы без мыслящего субъекта было историческим бытием земли до появления человека. Но из принципиальной возможности и необходимости «отмыслить» (abdenken) «принципиальную эмпириокритическую координацию», не вытекает, что можно «отмыслить» все природные соотношения. Здесь вступает в силу так называемый «лысый» силлогизм[79], над которым ломали голову древние мудрецы, здесь количество переходит в качество.
Отсюда: скептики правы лишь против рассудочных, метафизических, антидиалектических определений, оперирующих вещью в себе, взятой вне всяких отношений. Такую вещь в себе, безразличную по отношению ко всякому другому, познать действительно нельзя по той простой причине, что она не существует, является ничем, небытием, пустой абстракцией, метафизической иллюзией. Так называемые отдельные вещи: (электрон, атом, химические элементы, планеты, индивидуумы органического мира и т. д.) мы берём в их относительной независимости, но всегда в определённых, искусственно выделяемых, более устойчивых соотношениях, которые именно в силу своей относительной устойчивости берутся за скобки и не замечаются: хорошо бы выглядел, например, человек в безвоздушном пространстве и при абсолютном нуле! И какова была бы тогда его «природа»? Или, вспомним, что говорил в «Диалектике природы» Энгельс о «вечности законов природы». Они существуют, если налицо есть определённые естественно-исторические условия. Они по существу так же историчны, как и любой общественный закон, только масштабы времени совсем иные. Последние исследования Эддингтона, например, доказали, что в физике космической, при колоссальных температурах и давлениях, при нагревании тела не расширяются, а, наоборот, сжимаются, в полную противоположность обычным земным соотношениям, т. е. другим связям вещей и процессов.
Так меняется.[80] Вот здесь-то и вскрывается вся нелепость трактовки цвета, звука и т. д., как только субъективного. Ибо:
1) свойство иметь ощущение есть объективное свойство субъекта, который сам может быть рассматриваем как объект;
2) это ощущение появляется в результате воздействия объекта. Мы можем рассматривать, ведь, само отношение между объектом и субъектом, как объективное отношение, и свойство порождать ощущения будет тогда объективным свойством объекта, а свойство иметь ощущения будет тогда объективным свойством субъекта. Если мы знаем, что у субъекта a, b, c объект x порождает ощущения α, β, γ, то мы знаем тем самым известные объективные свойства объекта. Возьмём, на первый взгляд, парадоксальный пример, о котором мы упомянули выше: ядовитого паука. Если паук кусает человека, человек заболевает. Что такое ядовитость паука? Это — его объективное свойство, которое человек познаёт. Вне соотнесения с человеком оно не существует: тарантул может кусать дерево и никакого свойства ядовитости не обнаружится; если же он кусает человека, то его ядовитость налицо. Эта ядовитость, следовательно, есть нечто соотнесённое с субъектом и вне соотношения свойство ядовитости не существует: существует лишь свойство выпускать определённый сок такого-то химического состава.
Правда, на это могут сказать: здесь речь идёт о субъекте, как физиологическом единстве, а в проблеме ощущений речь идёт о специфической трудности, ибо тут — новое, психическая сторона; тут, далее, вопрос не только об ощущении, как процессе, но и вопрос об ощущении, как отражении внешнего и об отношении содержания этого отражения к самому отражаемому. Это верно, но мы этого и не оспариваем. Только это не есть возражение.