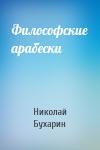В самом деле, в чем вопрос? Вопрос в том, прав ли был Кант, когда относительную субъективность феноменов превращал в абсолютную и заключая отсюда к непознаваемости вещей в себе. На это мы возражаем, и постольку и аналогия с пауком уместна; суть дела заключается в том, что мы, выражаясь словами Гегеля, знаем закон соотношения: ядовитость паука бессмыслица, Unding[81], как говорят немцы, вне соотношения с субъектом. С этой точки зрения сама «ядовитость» есть нечто субъективное. Но она в то же время выражает и объективное свойство, и познавая это объективное свойство (т. е. объективное соотношение между пауком и человеком), мы тем самым познаем паука с известной стороны. Это значит: всякий раз, как паук будет кусать человека, с ним будет происходить то-то и то-то. Паук — делаем мы заключение — ядовит. Не «в себе», но в соотношении. Когда мы говорим: роза красна, это значит: всякий раз, как человек смотрит на розу, у него возникает ощущение красного. Производить ощущение красного есть объективное свойство розы. Роза красна. Не «в себе», а в отношении. Но, повторяем, производить ощущение красного есть объективное свойство розы. Познавая это свойство, мы тем самым познаем и розу. Но так же, как за ядовитостью паука скрывается (вне отношения с человеком) его свойство выпускать жидкость определённого состава, так и за краснотой розы скрываются специфические световые лучи.
Таким образом, мы видим здесь всю диалектическую относительность понятий. Колючесть шипа розы есть объективное свойство шипа, но по связи его с телом человека или другого животного; вне этой связи понятие колючести бессмысленно; но это не мешает тому, чтобы оно выражало определённое объективное соотношение между объектом и субъектом.
Зная закон соотношения, мы знаем и относительность самого свойства, но это вовсе не незнание, как выходит, если следовать «дурному идеализму» Канта.
Мы имеем дело, однако, и с такими связями и отношениями, которые не зависят от субъекта. Если пропускается через воду электрический ток, то вода разлагается на кислород и водород, Весь процесс наблюдаем мы, грубо выражаясь, через очки нашей субъективности (причём мы знаем «закон» этих «очков»). Но само отношение между током и разложением воды совершенно от очков не зависит: оно объективно. Здесь два отношения: 1) отношение между током и водой; 2) отношение между всем наблюдаемым процессом и субъектом наблюдения. Но отношение между током и водой в его специфичности независимо от второго отношения, закон которого к тому же известен. Улавливаем ли мы это первое отношение? Конечно, улавливаем. Но это и значит, что мы познаём объективные свойства вещей и процессов. И каждый раз, как мы будем пропускать ток через воду, она будет разлагаться на водород и кислород. Этот процесс применяется и в технике, в промышленном производстве. Что же мы и здесь не знаем объективного свойства тока разлагать воду, или не знаем объективного свойства воды разлагаться под действием тока? Кто может сказать, что это не объективные свойства? Что здесь субъективного? Цвет воды? Запах? И т. д.? Но мы об этом даже и не говорим. Эту «субъективность» мы отбрасываем. Мы говорим о том, что вода разлагается, что есть объективное свойство тока в соотношении с водой и объективное свойство воды в соотношении с током. И это мы познаём. Но так же точно обстоит дело с громаднейшим и всё нарастающим количеством вещей и процессов в их связях и соотношениях. Это, правда, не кантовские «вещи в себе»: это действительные вещи и процессы в их действительных связях, переходах, движениях. В «Феноменологии Духа» Гегеля дан подробный анализ всех образований и ступеней, через которые и по которым проходит «Дух» (предметное сознание, самосознание, абсолютное знание). При рассмотрении предметного сознания, Гегель, изображая переход от чувственной достоверности к восприятию и от восприятия к понятию, даёт замечательную картину противоречий и трудностей в главном вопросе о соотношении между мышлением и бытием и о познаваемости вещей и процессов. Он великолепно изображает, как противоречия гонят сознание к мысли об универсальной связи всего сущего, и в заключении говорит:
«Связь с другой есть прекращение для себя бытия. Именно благодаря абсолютному характеру и своему противоположению она находится в отношении к другим [вещам,] и только это отношение имеет существенное значение; но отношение есть; отрицание своей самостоятельности, и, таким образом, вещь гибнет, как раз благодаря своему существенному свойству» (Феноменология Духа.)[82].
Здесь, по Гегелю, представление абсолютной общности не имеет уже чувственного характера и «впервые… сознание действительно проникает в царство рассудка».
Это место никак не должно нас смущать, ибо всё ещё речь идёт только о рассудочных категориях. Однако, вышеприведённые суждения нельзя оставить без некоторых возражений уже теперь. У Гегеля связь вещей, как известных предметных единичностей, имеет тенденцию превратиться в чистое отношение без относимого, точно так же, как, например, в «Философии природы» материя определяется через единство времени и пространства и их соотношений, а не наоборот, т. е. не так, чтобы время и пространство определялись, как формы существования материи. Если вещи не существуют вне отношения к другим вещам, то это вовсе не означает, что они «гибнут», то есть перестают существовать: отрицание изолированной вещи не есть отрицание вещи. Если отношение существует, как «существенное свойство» чего-то, то с гибелью этого чего-то должно гибнуть и это отношение. Отдирать одно от другого никак нельзя: это — антидиалектическая, голо-рассудочная операция: вещь предполагает отношение и уничтожает понятие вещи в себе, как абстрактной, бессодержательной и пустой: она всегда и везде, и для другого. Она сама — диалектическое противоречие, и философия должна брать её именно в этой диалектической противоречивости.
Чувство известной неудовлетворённости при обсуждении вопроса о познании часто проистекает из того, что люди думают не о познании предметного мира, а о чем-то другом; то есть не о том, чтобы получить отражение (правильное отражение) предмета, а о том, чтобы получить сам предмет, то есть превратиться в предмет.
Это стремление возникает в связи с аналогией с другими людьми. Если субъект X наблюдает живого «Y, человека» то он об Y судит по аналогии с собой. Он считает, что «познаёт Y» тогда, когда воспроизводит «переживания» Y в своём собственном сознании, судя об этом по мимике, по лицу, по движению тела и т. д. Другими словами, он познает Y тогда, когда он до известной степени сам превращается в Y, воспроизводит объект в себе самом, хотя в то же время и отделяет себя от этого другого. Но здесь предпосылкой является родовая однородность структуры, специфической живой материи и родовая однородность сознания, как его свойства, как его инобытия. «Сознание» многих самих взаимодействуют. Сознание каждого есть в то же время (на определённой ступени исторического развития) и объект себя самого. Это есть самосознание (Selbstbewusstsein). Ступень самосознания, как определяет Гегель в «Феноменологии Духа», есть «истина и достоверность себя самого», и в этом — отличие от предметного сознания. Однако, это отличие заключается и в том, что в то время, как кооперация или борьба людей в их телесности есть и кооперация или борьба их сознаний, соотношение между человеком и неорганической природой — совершенно иное. Здесь никак нельзя, чтобы бревно поместилось, как бревно, в его телесности, в сознании человека. Бревно может быть воспроизведено только «духовно» («geistige Reproduktion» у Маркса). Бревно не имеет сознания, как не имеет его весь неорганический мир (подробно об этом мы ещё будем говорить). Если бы субъект превратился в «бревно», т. е. в часть неорганической природы, то исчезло бы и сознание, и для этого субъекта, все проблемы мира, в то числе и проблема бревна. Такова смерть. В смерти, после разложения, то, что было мыслящим субъектом, становится однородным с неорганической природой и угасает в её безразличном равнодушии и равнодушном безразличии. Непонимание этого факта связано с различными обманами и иллюзиями, когда в природу всовывают многообразные типы сознания, одухотворяют её, превращают в бога, потом хотят причаститься этой — божественной благодати, в наивности своей воображая, что это-то и есть высший тип познания.
«Природа вещей» и её законы. Это выражает вечное движение, текучесть, непрерывное изменение соотношений и связей, мировую диалектику становления.[83]
Таким образом, процесс познания, отправляясь от чувственных показателей, исторически углубляется, снимает покровы субъективности, понимая эту субъективность и её относительность, зная её «закон», и издавая себе всё более адекватную действительности картину мира.
Примерно говоря, три ряда свойств мы можем перечислить здесь:
a) наиболее общие свойства, выражающие универсальные отношения: время, пространство, движение, форма, тяжесть и т. д.
b) качественно-специфические свойства, выражающие отношения вне зависимости от субъекта: физические и химические, биологические, общественно-исторические (твёрдость, жидкость, газообразность, электропроводимость, кристалличность, теплопроводимость, летучесть и т. д. и т. п.; способность ассимиляции, движения, размножения; способность ощущения; общественно-исторические свойства: способность мышления, речи, активного приспособления к природе и т. д.