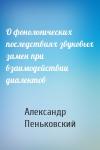Подобные замены принято рассматривать, особенно после известных работ Э. Косериу и Г. Хенигсвальда, как готовые результаты принятия, перенесения фонетического элемента из одной системы в другую, как фонетическое «заимствование». И это справедливо, если оценивать их с генетической точки зрения. Однако генетическая точка зрения не может быть отправной и уж тем более единственной при исследовании закономерностей развития системы, которые могут быть правильно поняты только «изнутри», а не «извне». Если же исходить из самой развивающейся, динамической системы, то представление звуковых замен как результатов фонетического заимствования окажется не соответствующим действительности.
Так, переход от [ч] к [чʼ], как и многие другие аналогичные изменения, осуществляется не прямой заменой одного звука другим, «своего» — «чужим», не путем перенесения ₂[чʼ] из вторичной системы в первичную (₂[чʼ] → ₁[чʼ]), не как заимствование, а как собственно фонетическое изменение.
Это изменение выражается в том, что при твердом ₁[ч] входят в употребление и все более широко распространяются смягченные варианты глухой шипящей аффрикаты различных степеней палатализации: полутвердые, полумягкие, мягкие, сверхмягкие. Эти сосуществующие в каждом данном говоре и в речи каждого его носителя варианты аффрикаты образуют ступенчатые ряды типа ₁[ч — ч˙ — чʼ — чˮ], различающиеся по количеству составляющих их элементов, по качеству начального и конечного элемента, по соотношению нетвердых вариантов с твердым и степени мягкости основного, наиболее употребительного из нетвердых вариантов. С этой точки зрения в говорах Западной Брянщины может быть выделено три основных типа рядов, три типа реализации фонемы ₁/Ч/: с преобладанием твердого [ч]; с преобладанием полумягких вариантов [ч˙]; с преобладанием мягкого [чʼ] — и соответствующие им три диалектные зоны, которые устанавливаются на основании того, какой из этих рядов является характерным для архаического слоя говоров, т. е. в нейтральном стиле диалектного языка у наиболее консервативной группы его носителей.
Указанные зональные различия, обнаруживаемые в горизонтальной, пространственной развертке, совершенно аналогичны различиям между типами реализации фонемы ₁/Ч/, выступающим в каждом данном говоре в вертикальной развертке — диахронически, в историческом времени, и синхронически, в социально-возрастной стратификации[7].
Совершенно очевидно, что мягкий ₁[чʼ], коль скоро он выступает в составе многочленных ступенчатых вариантных рядов[8], не может рассматриваться как готовое фонетическое заимствование, как результат перенесения из инодиалектной системы, а колебания между ₁[ч] и ₁[чʼ], поскольку они обнаруживаются в речи одних и тех же лиц и в одних и тех же условиях речевого общения, не могут квалифицироваться как колебания в пользовании первичной и вторичной системой. Мягкий [чʼ] не вводится в первичную систему, но создается в ней, создается в процессе скользяще-нащупывающего артикуляторного выбора, наряду с другими нетвердыми, смягченными вариантами типа ₁[ч˙] и ₁[чˮ], не известными вторичной (влияющей, индуцирующей) системе. Таким образом, то, что с внешне генетической точки зрения оценивается как звуковая замена, представляет собой: с точки зрения диахронии — фонетическое изменение; с точки зрения статической синхронии — реализацию фонемы на принципах свободного варьирования; с точки зрения динамической синхронии — живое актуальное развитие в одном из звеньев фонетической системы.
Отмеченное изменение, поскольку оно затрагивает фонологически нерелевантный, интегральный признак глухой шипящей аффрикаты, никак не сказывается на положении ₁/Ч/ в фонологической системе (именно поэтому система и допускает его, отзываясь на внешнее влияние) и могло бы рассматриваться как несущественное[9]. Однако в действительности оно влечет за собой целый ряд ближайших и отдаленных, прямых и опосредованных последствий, пренебречь которыми значило бы признать несовершившимися некоторые весьма существенные сдвиги фонетического и фонологического характера[10].
Одним из таких последствий на синтагматической оси является регрессивная ассимиляция предшествующих твердых согласных, которая осуществляется не только внутри, но и, что особенно показательно, на стыке слов, на межсловных границах. Наиболее ярко сказывается это изменение в реализации фонемных сочетаний ₁/НЧ/, ₁/НʼЧ/, ₁/ Ч/, которые воплощаются теперь не только в сочетании ₁[нч], но и в сочетаниях ₁[н ч, нʼчʼ]. Ср., например, следующие материалы, иллюстрирующие ассимилятивное смягчение в sandhi: вонʼчʼаγо́; йонʼчʼа́ста йе́зʼдʼиў; стъка́нʼ/чʼайу (Сенча Суражского р‑на); адʼи́нʼ чʼилавʼе́к нʼичʼо́γа на зро́бʼа; зʼдʼенʼ чʼуло́ч кʼи (Овчинец Суражского р‑на); што пнʼом пъ савʼе́, што саво́й па пнʼу́, дʼинʼ чʼорт савʼе́ бо́лʼна; падвʼи́нʼ чʼуγуно́к (Каталино Мглинского р‑на); а сы́н чий? (Рассуха Унечского р‑на) и др. под.
На парадигматической оси переход от ₁[ч] к ₁[чʼ] имеет следствием аналогичное изменение звонкой шипящей аффрикаты, изменение, которое может быть понято только как результат выравнивания в паре ₁[ч] — ₁[д͡ж].
Следует учесть, что во всех известных белорусских говорах и в большей части говоров украинского языка, вместе с которыми западнобрянские говоры образуют одну общую межъязыковую восточнославянскую зону распространения фонемы /Д͡Ж/, эта фонема, не обладая ДЭ твердости — мягкости, реализуется в твердом согласном звуке[11]. Произношение звонкой шипящей аффрикаты как твердого согласного характерно и для тех украинских и белорусских говоров, которые составляют непосредственное окружение говоров Западной Брянщины. В несмягченном варианте выступает аффриката ₁[д͡ж] и в северо-западной части западнобрянских говоров, где до сих пор последовательно сохраняется твердый [ч][12]. Поскольку в ближайших с востока ю.‑в.‑р. говорах фонема /Д͡Ж/ вообще отсутствует[13], очевидно, что мягкость ₁[д͡жʼ] в западнобрянских говорах не может быть приписана никакому внешнему влиянию.
Едва ли более вероятным является и второе возможное предположение — об исконной мягкости этого звука, даже если принимать точку зрения А. А. Шахматова, считавшего звонкую шипящую аффрикату д͡ж фонетическим архаизмом, сохранившимся в укр. и блр. говорах от эпохи «общерусского праязыка» при поддержке со стороны д в родственных формах[14]: весьма затруднительным было бы объяснить сохранение исконной мягкости одним лишь ₁[джʼ] при отвердении всех остальных шипящих и прежде всего парного глухого [ч].