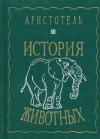Уже в книге первой § 18 появляются животные "благородные", как лев, и "низкородные", как змея, "породистые" (волк) и прирожденно стыдливые (гусь). Впрочем, человек и здесь мерило: признак его особого благородства — то, что у него одного голова "направлена к верху вселенной" (§ 62). Книга вторая начинается с явных тотемно-мифологических реминисценций по поводу льва (см. примеч. 3). Наиболее расцветает мифологизм (а с ним и антропоморфизм в смысле прослеживания у животных человеческих свойств) в книге девятой. Здесь типичным приемом служит объединение родов животных в группы по признаку взаимной привязанности или наличия общих врагов. Одной из причин поистине неувядаемой популярности "Истории животных" послужили весьма оживляющие изложение антропоморфизированные рассказы в той же книге о кукушке, "сознающей собственную трусливость" (§ 107), о морском орле, который бьет своих птенцов, если они боятся смотреть на солнце (§ 125) и т.д. Впрочем, если эти рассказы и выглядят наивными (и, безусловно, таковыми являются), то все же они положили начало постепенному уяснению прочности нитей, удерживающих человека как биологическое существо в мире животных, в органической природе. От "Истории животных", таким образом, прямой, хотя и очень долгий путь ведет к эволюционизму и зоопсихологии.
Оценить в полной мере вклад Аристотеля (ив особенности цикла его произведений о животных) в мировую науку и философию можно, только если помнить, что его подход выработан на биологическом материале. Современные комментаторы Аристотеля выражают даже сожаление, что и к своим физическим идеям по поводу естественных мест для элементов, невозможности прямолинейного движения по инерции он не подошел столь же критично и аналитически как к биологическим предметам, не понял их неплодотворности, "не будучи по призванию физиком... Если бы он подошел к рассмотрению таких простых явлений, как падение камня, как полет брошенного тела, как всплывание и погружение предметов в жидкой среде, с той же наблюдательностью и непредвзятой пристальностью, с какой изучал развитие зародыша в матке или особенности строения тела некоторых морских животных, он, возможно, пришел бы к иным результатам" (Рожанский, 1981, с. 30-31). Теперь обратимся непосредственно к рассмотрению биологической проблематики "Истории животных".
БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В «ИСТОРИИ ЖИВОТНЫХ»
Трактат может быть условно разбит на три части, в каждой из которых его предмет, т.е. живая природа и прежде всего мир животных, рассматривается под особым углом зрения. К первой части следует отнести анатомо-физиологические книги первую-четвертую, где рассматривается деление организма на ткани и органы; ко второй — книги пятую-седьмую, посвященные эмбриологии и онтогенезу. Третья часть — книги восьмая-девятая (десятая стоит особняком, см. выше) — этология и экология. Первая часть нашла свое продолжение в "О частях животных", вторая — в "О возникновении животных". Это продолжение в обоих случаях представляет собой переход от описания к каузальности. Примером может служить то, как в трактате "О частях животных" развернута фраза из "Истории животных" (кн. третья, § 54) о том, что "все кости животных связаны с одной и касаются друг друга, как вены; не бывает костей, совершенно отделенных [от остальных]". В "О частях животных" (II, 654) этот тезис дополнен рассмотрением того, как нарушился бы принцип целесообразности, если бы хотя бы некоторые кости или "вены", т.е. вообще кровеносные сосуды, были изолированны; того, что следует считать "началом" у костей (это позвоночник) и соответственно у "вен" (сердце); того, каким образом позвоночник-начало осуществляет свою "конечную причину", т.е. свою цель — сгибание и движение — благодаря тому, что совмещает в себе единство ("непрерывную связь") и многочастность (позвонки). Иногда имеется трехчленная цепочка параллельных мест из "Истории животных", "О частях животных", "О возникновении животных" с последовательно все большей детализацией причин (см. следующий пример).
Чистая описательность "Истории животных" в сравнении с "О частях животных" и тем более "О возникновении животных" создает впечатление предварительного, даже чернового характера "Истории животных"; однако, вчитываясь, начинаешь понимать, что описательность эта стоила особых усилий и по-своему последовательна. Даже там, где, казалось бы, "легкое" (элементарными средствами аристотелевского концептуального аппарата) объяснение напрашивается само, Аристотель его не дает, а лишь подводит к нему читателя или слушателя. Так, в § 67 книги третьей "Истории животных" отмечено, что "в большинстве случаев на более толстой коже волосы тверже и толще". Никаких причин, хотя бы таких простых с точки зрения своей обычной концепции четвероякой причинности (т.е. концепции наличия у каждого явления материальной, действующей, формальной и целевой причины), таких, как наличие в толстой коже большего количества "материи", из которой получились бы более твердые волосы, и т.д. — никаких причин подмеченного соотношения между толстой кожей и твердыми волосами Аристотель в "Истории животных" не дает. В "О частях животных"
(658а) уже дана хотя бы целевая причина возникновения волос вообще как "защиты". Наконец, в "О возникновении животных" (V, 3) подробно рассмотрена материальная причина названного в "Истории животных" (кн. третья, § 67) явления и сделан вывод, что "если кожа рыхлее и толще, волосы в ней — толстые вследствие обилия землистого вещества и большей величины пор".
Достижения выделенной нами первой части "Истории животных" были синтезированы в александрийской биологии с успехами гиппократовской школы, что привело к открытиям Герофила и Эразистрата, а в конечном счете и Леонардо да Винчи, Везалия и Гарвея. Доктрины второй части "Истории животных" и "О возникновении животных" относительно развития практически не получали продолжения вплоть до XVI в., когда У. Альдрованди по стадиям подробно проследил развитие зародыша в курином яйце. Третья часть нашла продолжение в перипатетической школе, а затем и за ее пределами в "Рассказах о диковинах" (III в. до н.э.) и прочей "парадоксографии", от которой ведут свое начало "Бестиарии" и "Физиологи", во многом определившие лицо средневековой науки, а от них, после сложного ряда переосмыслений, также и ряд отраслей ренессансного естествознания.
Таким образом, в "Истории животных" предвосхищено позднейшее, дожившее и до XIX-XX ее., разделение биологических дисциплин на три основные группы: на морфологические, физиологические и экологические дисциплины. Систематизация, элементы которой также бесспорно присутствуют в "Истории животных" (см. ниже), основана на морфологических, физиологических (особенности воспроизведения) и экологических (деление животных на водных, сухопутных, "воздушных") признаках и более близка по своему подходу, логике и основным делениям к новоевропейской таксономии, чем какая-либо другая из предпринимавшихся на всем протяжении древнего и средневекового периода мировой истории попыток классифицировать организмы. Но и на уровне частных наблюдений в "Истории животных" есть много сведений, в свое время не оцененных, но получивших подтверждение в XIX-XX ее. Это прежде всего описания электрического аппарата скатов; гектокотилуса; способа передвижения наутилуса; переоткрытой впоследствии И. Мюллером псевдоплаценты у акулы гладкой. Долгое время подвергались сомнению описанные в книге шестой факты заботы сомов о потомстве; в середине прошлого столетия Д. Агассис подтвердил эти факты прямым наблюдением сначала над североамериканскими, а затем и над греческими (из реки Ахелой) сомами.
Далеко не все обращения к биологическим материалам "Истории животных" носят столь позитивно-научный характер. Это и не удивительно: мы уже говорили, что в "Истории животных" присутствуют многочисленные мифологические компоненты. В XVIII в. в "Российско-Азиатской зоографии" П. С. Палласа нашел отражение тезис "Истории животных" о возможности весьма отдаленных скрещиваний, например, собаки с тигром; эта явная ошибка попала к Палласу из "Естественной истории" Плиния Старшего (VIII, 61), из которой Паллас вообще в известной мере почерпнул свою своеобразную концепцию об эволюции путем скрещивания. Возможно, он взглянул бы на вопрос несколько иначе, если бы обратился непосредственно к источникам Плиния — к "Истории животных" (кн. восьмая, § 167), где об упомянутом отдаленном скрещивании сказано с сомнением, или к "О возникновении животных" (746), где сообщено, что "индийские псы рождаются от некоего зверя, похожего на пса (а не от тигра. — Б. С), и собаки". Но и реализм "О возникновении животных" обманчив, скорее поправка заимствована из другого варианта того же мифологического рассказа: из варианта, отразившегося у Боэция в том месте "Утешения философией" (Боэций, с. 258), где повествуется, как на острове Цирцеи "вой оборотня несется, — твари с личиною волка, тигра индийского...".
Упомяну в той же связи один (из многих имевших место) случай использования "Истории животных" как скрытого источника: повествование из серии тигриных рассказов — гиперболизированное описание (по народным поверьям, см. примеч. 29 к кн. второй) тигра в виде сказочного животного "мартихора". Речь идет о недавно вышедшей в русском переводе книге М. П. Холла "Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии" (Холл, с. 304). Это описание дано со ссылкой на различные источники, кроме того, к которому оно действительно восходит: кроме "Истории животных" (кн. вторая, § 28).