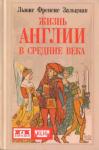Но ни болезни, ни нищета, ни жестокость не могли погасить радости, и в Средние века было немало весельчаков. Чувство юмора играло немаловажную роль в средневековой жизни. Нередко это был юмор, рассчитанный на ребячливые, незрелые умы, им вдохновлялись грубые розыгрыши да непристойные истории. Одним из признаков подобной ребячливости был распространённый среди знатных господ обычай держать при своём дворе полоумных «дурачков» (в отличие от умных и независимых шутов), чтобы потешаться над их кривляньем и нелепыми речами. Проповедники время от времени возмущались обычаем превращать в посмешище эти «невинные души», «чудных шутов Господних», с которыми и поганые сарацины обращаются уважительно, ибо убогие находятся под особой защитой Господа. Один такой проповедник весьма прямолинейно говорил своим слушателям, что если они находят дураков занятными, им лучше было бы купить зеркало. Тем не менее эта традиция просуществовала на протяжении всего Средневековья. Присущее народу чувство юмора можно оценить по тому, как оно проявлялось в прозвищах, которыми награждали друг друга средневековые англичане. До XIII века большинство населения не имело фамилий, переходивших по наследству от отца к сыну; человека называли по имени, данному при крещении, зачастую ради отличия добавляя к нему имя отца, — так уже в наши дни на Балканах половина мужчин носит имя Георгий сын Димитрия, а другая половина — Димитрий сын Георгия, что неизбежно приводит к путанице. Чтобы было легче понять, о ком именно идёт речь, стали либо присоединять к имени человека название места, где он жил, либо указывать род его деятельности, либо же упоминать узнаваемые индивидуальные черты. Очень часто приметой служили черты внешнего облика, человек звался Длинным или Коротышкой, Смугляком или Рыжим; кроме того, могло обыгрываться его сходство с каким-либо животным: дюжий здоровяк получал прозвище Бык, а его противоположность — прозвище Мышонок. Однако нередко попадаются прозвища, в которых чувствуется умение точно подметить характерные повадки или манеру речи — то самое остроумие, которым подчас славятся уличные мальчишки наших дней. Так, в XIII веке встречались имена вроде Уильям Тихий шаг, Уильям Босоног (он был внуком Филиппа Пятницы, как уже могли догадаться те, кто читал «Робинзона Крузо» и помнит про след на песке), Мейбл Ездовая собака, Джон Скрюченный хвост, Патрик Ощипанная курица, Алиса Вертишея (как видно, она непрестанно крутила головой), Свежее молоко (который, наверное, расхваливал свой товар на улицах) и Кислое молоко (который, по всей видимости, выдавал его за свежее), Отправляйся-в-постель и даже столь странное и романтичное имя, принадлежавшее одному нормандскому сеньору, как Господь-да-спасёт-дам.
Чувство юмора ещё более заметно проявлялось в средневековом искусстве. На полях богато изукрашенных книг мы находим множество гротескных рисунков: звери с человеческими головами, рыцари, атакующие друг друга на улитках, зайцы, подстреливающие собак, и обезьяны, выделывающие всевозможные кунштюки. Немало комических изображений можно отыскать среди каменной и деревянной резьбы, украшавшей английские церкви, — немало сатирических или просто весёлых сюжетов, рождённых фантазией мастеров-резчиков. Простонародная литература тоже насыщена шутками, пусть не всегда остроумными и, на взгляд современного человека, подчас даже кощунственными, как в пародиях на Библию или на церковные богослужения. Однако средневековый человек сдабривал религию изрядной толикой веселья, не испытывая при этом замешательства: в «мираклях»[6], предназначавшихся для того, чтобы в доступной форме обучать священной истории, порядком было грубого фарса, а примеры, которыми проповедники подкрепляли свои речи, очень часто бывали в большей степени забавными, чем поучительными. Однако вера наших предков была совершенно искренней, и, по-видимому, религия так тесно переплеталась с их жизнью, что никому просто не приходило в голову оберегать её от соприкосновения с шуткой. Даже в религии той эпохи многое свидетельствует о незрелом, полудетском складе ума, который, как мы видели, был свойствен Средневековью. С одной стороны — детская простота и буквальный характер верований, помогавшие средневековому человеку без недоумения принимать учение Церкви, с другой — не чуждая страха, детская любовь ко всему таинственному, побуждавшая наших предков видеть в каждом необычном происшествии чудесное проявление добрых или злых сил. Как следствие, средневековая литература изобилует историями о колдовстве и привидениях. Солидные хронисты, описывая великие битвы и деяния королей, будут рассказывать о человеке, который случайно попал на празднество фей и выкрал их золотую чашу, о водяном, пойманном у берегов Эссекса, о ведьме, чьё тело было унесено демонами из церкви, где оно покоилось, или о призраке нечестивого священника, что объявился в своём приходе и убивал всякого, кто отваживался повстречаться с ним.
До сих пор мы вели речь о душевном настрое жителей средневековой Англии, пытаясь в самых общих чертах обрисовать их отношение к жизни. Однако необходимо также обратить внимание на то, как было устроено общество. Историческая эпоха не знала такого периода, когда все люди были бы равны, и потому, как только дело касается отдельных слоёв общества, приходится вносить соответствующие уточнения в общие суждения относительно условий жизни в то или иное время. Английское общество средневековой эпохи, по крайней мере после прихода нормандцев, можно сразу разделить на две половины: духовное сословие и сословие светское. Духовенство, которое теоретически должно было радеть о спасении души, видело своего земного главу в Папе, следовало собственным законодательным установлениям, имело собственные суды и отличало себя от светского сословия, подчинявшегося королю. Светское сословие мы можем разделить на три категории: знать, купечество и рабочий люд — и те же три категории выделить в духовном сословии, где это будут, соответственно, прелаты (епископы, влиятельные аббаты и приоры), «чёрное» духовенство (монастырская и нищенствующая братия — профессионалы в деле религии) и рядовые приходские священники с капелланами.
Несмотря на явные отличия, границы между этими прослойками общества на деле были размытыми. Даже грань между духовным и светским сословиями не была чёткой. Одо, брат Вильгельма Завоевателя, являлся одновременно епископом Байё и эрлом Кентским, епископы Даремские не просто возглавляли свою епархию, но также считались лордами палатината Дарем, вследствие чего на одной стороне принадлежавших им печатей они изображались в епископском облачении, а на другой — на коне в полном доспехе. Автор XII века сетует на то, что прелаты стремятся подражать светской знати: «Клянётся ли в чем-либо рыцарь, вслед за ним так же поступает епископ, принося ещё куда более немыслимые обеты. Соберётся ли рыцарь загнать дичь, епископ тоже должен отправиться на охоту. Похваляется ли первый своими ловчими птицами, и для другого они — единственная отрада. Плечом к плечу верхом вступают они в сражение и бок о бок заседают в суде или в палате Шахматной доски[7]: школяры-приятели, ставшие собратьями по должности и по оружию». На противоположном полюсе общественной иерархии — целая армия законников, судейских служащих и клерков, которые играли вспомогательную роль в жизни Церкви и потому пользовались привилегиями духовенства; однако они занимались исключительно мирскими делами и не были обязаны давать обет безбрачия. Точно так же, несмотря на то что титулованная и мелкая знать («nobles» и «gentry») составляли особую землевладельческую военную аристократию, не существовало непреодолимой жёсткой границы между ними и купцами или йоменами: Англия не знала такого замкнутого в себе сословия, каким была во Франции, где все сыновья родовитого сеньора, а также их потомки, наследовали знатное достоинство и не имели права запятнать его трудом или участием в торговле. В Англии представители аристократических родов постоянно (и чем ближе к концу Средневековья, тем чаще) встречаются среди коммерсантов или же им приходится довольствоваться положением мелких фермеров, тогда как купцы достигают положения джентри и даже становятся пэрами Англии. Даже крестьяне, большинство из которых были прикованы к манору и фактически являлись собственностью своего господина (лорда), на деле находились в гораздо менее плачевном положении, чем может показаться, если принимать в расчёт не только формальную сторону вопроса. Хотя закон не предоставлял им никаких прав, кроме права на защиту их «жизни и членов» от лорда, они практически стояли на одном уровне со свободными людьми, то есть со всеми, за исключением своего господина, власть которого над крестьянами существенно ограничивалась силой обычая. Более того, хотя ограничения, налагаемые на свободу передвижения, а также необходимость отдавать своё время и труд были весьма обременительными для крестьян, их зависимое положение не было сопряжено с чувством унижения или оскорблённого достоинства.
Вольнолюбивый дух, побуждающий людей страстно желать свободы и бороться за её законодательное признание, овладел умами только после того, как эпоха Ренессанса дала новую жизнь философии и идеалам Древней Греции, положив конец по-детски невозмутимому согласию с наличным порядком вещей, которое было присуще Средневековью.
ГЛАВА 1
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Фундаментом, на котором зиждилось средневековое общество, была земля. На протяжении нескольких веков после норманнского завоевания — в отличие от современной эпохи — безземельных людей почти не было, такие лишь изредка встречались в больших городах. Большинство жителей Англии имели непосредственное отношение к сельскому хозяйству и владели каким-либо участком земли. Это могли быть несколько огородных грядок у полуразвалившейся лачуги или тысячи акров, разбросанных по дюжине графств; участок мог быть получен за службу в чине маршала в королевской армии во время войны или в обмен на скромную службу пахаря либо возчика у кого-нибудь из местных сквайров, но в любом случае это была та доля английской земли, на которую хозяин мог со всей определённостью указать как на свою собственную. Обычно владельцу крошечного надела даже меньше грозило лишиться своей земли, чем владельцу обширных поместий, вызывавших зависть у короля. Кроме того, у каждого клочка земли имелся свой лорд, верховным же лордом всех земель был король. Воробей, склевавший пшеничное зерно, мог таким образом похитить в зародыше будущий колос, которому надлежало пойти прямо в королевские закрома, но, что куда более вероятно, он мог ограбить Джона Доу, который был бедным арендатором сэра Жоффруа де Сея, получившего свои земли от графа Суррея, который владел своими имениями по воле короля. Во втором случае, если бы Джон Доу сбежал или умер, не оставив наследников, клочок земли, на котором совершил своё злодеяние воробей, отошёл бы сэру Жоффруа, а если бы тот совершил преступление, караемое конфискацией земель, этот клочок перешёл бы к графу Суррея и, окажись сей владетельный господин замешан в подготовке мятежа, достался бы вместе со всеми его поместьями королю. Не станем задаваться вопросом о том, должен ли был при таких условиях наш добрый король послать своих стрелков сразить насмерть преступного воробья; мы лишь хотели показать, что почти каждый человек имел свою землю, у каждого участка земли был по меньшей мере один хозяин, а зачастую и несколько владельцев разного уровня, а надо всеми стоял король. Посмотрим, как сложилась эта система и какую роль она играла в жизни средневекового человека.
В быту первых обитателей Англии землепашество не имело особого значения. Они жили, в основном, за счёт охоты и переселялись из края в край, оседая на какое-то время в богатых дичью и пригодных для жизни местах. Там они ставили жилища наподобие вигвамов, которые служили кровом их родовой общине, и возводили вокруг этих жилищ земляной вал, частокол или какую-либо другую ограду. И поскольку люди не могут чувствовать себя хорошо, питаясь одним только мясом, часть окрестных земель обычно вспахивали примитивным плугом и засевали зерном, которому предстояло, созрев, быть собранным и истолчённым в муку работящими женскими руками, а затем эти же руки пекли из муки лепёшки, и всё это должно было способствовать выживанию наиболее приспособленных. Из-за того, что год за годом один и тот же участок земли засевали тем же самым зерном, со временем урожай становился всё скуднее и скуднее. Когда же почва окончательно истощалась или когда в окрестных лесах переводилась дичь, деревню оставляли; члены родовой общины отправлялись на поиски нового пристанища и даже нескольких, если число людей увеличивалось настолько, что совместная жизнь становилась обременительной. О тех временах — и только о тех временах — можно сказать, что земля принадлежала народу; тогда не существовало частных прав на землю, поскольку не было частных лиц, способных предъявить их: жизнь вне сообщества — племени или рода — была практически немыслима, и, будь она даже притягательна, такая жизнь неминуемо оказалась бы очень краткой.
К тому времени, когда на территорию Британии пришли римляне, местное население уже было в большей степени оседлым и жизнь его была устроена несколько сложнее. Деревни стали крупнее, а их обитатели обзавелись личной собственностью, отчего им было уже не так просто, как прежде, переселиться на новое место, подобно рою пчёл, перелетающих в новый улей. Кое-кто из жителей теперь держал коров и свиней, что не только осложняло перемещение людей в другое место, но и в значительной мере способствовало возникновению представлений о частной собственности и о вступающих в противоречие правах на землю. Владелец скота имел в нём пищу, а также богатство; теперь у него было то, что он мог обменять (стало быть, то, чем можно было торговать), однако у него появлялись и дополнительные обязательства перед соседями. На неогороженных территориях скотина могла пастись, где ей заблагорассудится, но если животные, принадлежавшие тому или иному лицу, забредали в общественные хлеба или начисто выщипывали лучшую траву у реки, обрекая остальной скот на полуголодное существование, то это было чревато большими неприятностями для хозяина, если, конечно, его не защищал статус вождя или жреца. Так постепенно возникал обычай огораживать поля и лучшие луга, ограничивать количество скота, выгоняемого на такие луга одним хозяином, и отводить самые хорошие пастбища для личных нужд вождей и других влиятельных людей. Кроме того, поскольку население страны росло, а в сельском хозяйстве стал применяться более производительный плуг, запряжённый быками, среди деревенских жителей неминуемо должны были появиться лентяи, уклонявшиеся от работы на общественной земле. С этим пытались бороться, разделив поле на множество узких полос и закрепив несколько таких полос за каждым семейством, которое несло ответственность за то, чтобы земля была обработана подобающим образом. Поначалу весь урожай, собранный на таких полосках земли, по-прежнему являлся общинной собственностью, то есть принадлежал всей деревне, но обязанности всегда влекут за собой права, и наделы постепенно стали считаться собственностью тех, кто их обрабатывал, а зерно с каждого надела доставалось тому семейству, за которым он числился.
Когда Британию завоевали римляне, — а это был практичный народ с обширными познаниями в сельском хозяйстве, — они ввели свою собственную систему. Ядром этой системы была вилла — большой сельский дом с хозяйственными постройками, окружённый полями, на которых трудились рабы. Отныне эти поля являлись частной собственностью фермера, а излишки урожая (то есть всё, что не уходило на содержание семьи), продавались — обычно в города, которые за годы римского правления заметно выросли. Однако система вилл была распространена только в центральных и южных областях Британии, и даже там обширные территории остались не затронуты ею, поэтому саксонские завоеватели, вторгшиеся в Британию в конце V века, ещё должны были застать прежнюю систему, когда большая часть земли обрабатывалась в виде больших полей, разделённых на узкие полосы. При саксах произошли важные перемены. Вместо того, чтобы год за годом выращивать урожай на одном большом поле вплоть до истощения почвы, а затем распахивать новый участок, теперь всю культивируемую землю (то есть землю, пригодную для пахоты) стали делить на две части, обрабатываемые попеременно через год; при такой системе половина земли всегда находилась под паром, отдыхая и восстанавливая своё плодородие, тогда как другая половина засеивалась и приносила урожай. В дальнейшем обрабатываемую землю стали делить на три части: каждый год одно поле оставляли под паром, на следующий год это поле засевали пшеницей, ещё годом позже на нём сеяли овёс, ячмень или бобы с горохом, а затем вновь держали под паром. Эти две модели, называемые двупольной и трёхпольной системами земледелия, продолжали почти повсеместно применяться в Англии на протяжении всего Средневековья.