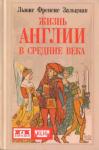В прежние времена готовили почти всегда на улице, по крайней мере летом, причём на открытом огне, на котором можно было жарить и варить любую пищу, но почти нельзя было печь. Поэтому лорд манора обычно строил общественную пекарню, где держатели могли за небольшую плату испечь хлеб. Со стороны лорда устройство пекарни не было чистой благотворительностью: она служила неплохим источником дохода, поскольку лорд не только позволял вилланам пользоваться своими печами, но и принуждал их к этому (правда, стоит отметить, что в Англии подобный обычай исчез раньше, чем во Франции, где крестьяне протестовали против него ещё в эпоху Великой французской революции). Точно так же лорд принуждал своих арендаторов молоть зерно на его мельнице, и мы знаем, например, что причиной серьёзного конфликта между аббатом монастыря св. Альбана и его держателями стало то, что аббат отказался позволить им пользоваться в домашнем хозяйстве ручными мельницами. Аббату удалось отстоять свои интересы, и в знак победы он вымостил двор каменными жерновами, конфискованными у провинившихся. (Этот памятник господской власти был разрушен восставшими горожанами во время событий 1381 года.) Первые мельницы приводились в движение водой (ветряные мельницы были практически неизвестны в Англии до начала XIII века), отчего реки и ручьи играли в жизни людей наиважнейшую роль. Наряду с этим, реки и ручьи служили источником воды и пропитания; в частности, в них водились угри, которых в Средние века ели в большом количестве. С хозяином мельницы расплачивались натурой, то есть отдавали ему определённую часть привезённого для помола зерна, мельники же были печально известны своей жадностью и склонностью к воровству. В протоколах манориальных судов часто фигурируют мельники, бравшие больше положенной им доли; вороватые мельники многократно встречаются и в народной литературе Средних веков. Чосер, рассказывая о мельнике, оказавшемся среди кентерберийских паломников, говорит, что тот «ловко крал зерно и получал тройную прибыль», а о мельнике из Трампингтона — что тот был «вор, промышлявший зерном и мукой, превеликий ловкач, не упускавший случая украсть».
Пока что мы ничего не сказали о такой важной составляющей сельской жизни, как Церковь. (Духовной роли Церкви далее будет посвящена пятая глава.) В Средние века, в отличие от последующих эпох, не делали различия между религией и повседневностью; в те времена деревенская церковь была центром общественной жизни крестьян, подобно тому как господская усадьба была центром их трудовой жизни. Церковь служила олицетворением равенства перед Богом, равенства в будущей жизни, что отчасти смягчало тяготы неравенства перед законом в жизни земной. Церковь представляла собой единственную силу, способную встать между королём и знатью, а по временам также — между знатными господами и их бедными подданными. Церковь была местом сходок, на которых обсуждались текущие дела деревни, зачастую церковь выполняла роль банка или сокровищницы, где прихожане хранили свои документы и сбережения, не надеясь надёжно укрыть их в собственных домах; в церкви же хранился небольшой фонд для предоставления ссуд или безвозмездной помощи тем, кого подкосила болезнь или одолели невзгоды. С церковью были связаны выходные дни трудящегося люда, ведь они приходились на церковные праздники, на дни чествования святых, и некоторые из этих дней — прежде всего день того святого, которому была посвящена местная церковь, — отмечались всенародным пиршеством и весёлым гуляньем в церкви и на церковном дворе. В подобные дни разбивали палатки для торговли едой, напитками и другими соблазнами, и этот обычай послужил одной из причин возникновения ярмарок. Англичане всегда были любителями поесть и мастерами выпить, и как сегодня мы с радостью устраиваем торжественный обед, если нужно отметить значимое событие, воздать почести заслуженному человеку или собрать средства для каких бы то ни было целей, точно так же и наши предки в Средние века отдавали долг памяти своим святым праздничным гуляньем и собирали деньги на нужды церкви, организуя дни «церковного эля». Торжества, носившие это название, обычно были приурочены к Пасхе или Троице, к этому времени церковные старосты варили из принесённого прихожанами солода огромное количество эля и, когда наступал установленный день, продавали его с большой выгодой. По существу, «церковный эль» мало отличается от знакомых нам праздников с киосками, набитыми лакомствами и прохладительными напитками и церковными благотворительными базарами, где милейшие дамы покупают ими же принесённые пироги, вот только средневековый обычай сопровождался куда большим весельем. Пуританин елизаветинских времён писал об этой традиции, ещё сохранявшейся в его дни: «Вот как это происходит. В некоторых городах, пребывающих во власти разнузданного Бахуса, в канун Рождества, Пасхи, Троицы или же к иному дню церковные старосты всех приходов со всеобщего одобрения заготавливают десять фунтов или двадцать кварт солода: часть они выкупают из церковных запасов, а часть им приносят сами прихожане, каждый из которых даёт сколько-нибудь сообразно своим возможностям; из этого солода готовят очень крепкий эль, выставляемый затем на продажу в церкви или в другом отведённом для сего месте. Когда же откупоривают бочки с этим ядрёным напитком, называемым «huf-cap» (букв, «пылающая чаша»), все стремятся как можно быстрее подобраться к нему и потратить на него как можно больше денег, поскольку считается, что тот, кто сидит ближе всех и тратит больше всех, и есть самый благочестивый человек; тот же, кто, будучи стеснён бедностью или по иной причине, не проявляет усердия в питии, считается лишённым добродетели и благочестия. И вот многие бедняки, так же как и вы, в поте лица зарабатывающие свои гроши, тратят их на церковный эль, ибо преисполнены уверенности в том, что это достойное хвалы и угодное Господу дело».
Слуги лорда не замедлили последовать примеру служителей Церкви: главные управляющие (stewards) и бальифы (bailiffs) устраивали «податные эли». Во время уборки урожая они обходили округу, принуждая крестьян отдавать часть зерна из своих скудных запасов для приготовления солода и затем, наварив из этого солода эль, обязывали жителей деревни покупать его. Против «податных элей» издавались специальные законы, но безуспешно. Рассказывая о жизни средневекового крестьянина, всегда следует иметь в виду присутствие в маноре мелких управителей, способных сделать жизнь труженика невыносимой. Выходцы из крестьянской среды, на короткий срок получившие власть над своими собратьями, эти люди, подобно сержантам в армии или старостам в школе, могли доставлять подчинённым многочисленные неприятности, несмотря на то что старшие управители и хозяева старались строго следить за ними. Когда Эдуард I[15] в начале своего царствования повелел собрать сведения о положении дел в государстве, отчёты из всех областей страны были полны жалоб на бальифов и других управителей: в основном речь шла о том, что они угрозами вымогают деньги, но подчас и о том, что они противозаконно бросают людей в тюрьму и подвергают невиновных пыткам; так, в Йоркшире бальиф эрла Линкольна «во множестве творил насилие, разбой и несправедливостей учинил немыслимо», а по приказу управляющего эрла Уоренна вершились «бесчисленные дьявольские притеснения».
Главный управляющий имением (steward) был представителем лорда, и обычно ему были вверены несколько маноров. Главному управляющему надлежало вершить суд, и потому он непременно вынужден был разбираться в законах; кроме того, именно он был обязан знать, сколько должен производить каждый манор, и в целом блюсти интересы своего господина. Затем шёл бальиф — управляющий фермой, который должен был обладать хорошими познаниями в сельском хозяйстве, чтобы не ждать по каждому поводу распоряжений лорда или главного управляющего. Бальиф надзирал за работами в манориальном хозяйстве и присматривал за другими слугами. В числе слуг были: «сенной сторож», отвечавший за сохранность лугов, живых изгородей и лесов, старшина косцов, пастух, ходивший за коровами, свинопас, овчар, молочница, смотревшая также за птицей, и, наконец, самое главное лицо — управляющий-надсмотрщик (reeve). Этот управляющий, которого избирали из своих рядов сами крестьяне, непосредственно ведал всеми хозяйственными работами, поэтому его обязанности отчасти совпадали с обязанностями бальифа.
Управляющий-надсмотрщик должен был следить за тем, чтобы работники поднялись рано утром и вовремя впрягли быков в плуги, чтобы скотина получала должный уход, чтобы зерно было обмолочено как следует и ни толики его не было украдено, чтобы женщины, работающие молочницами, не воровали сыр и масло и чтобы пастухи не шатались по кабакам да по ярмаркам и ристалищам. Норфолкский управляющий, замыкающий в «Кентерберийских рассказах» Д. Чосера вереницу паломников, досконально знал своё дело:
Он мог решать сложнейшие вопросы:
Какой погоды ждать? И в дождь иль в зной
С земли возможен урожай какой?
Хозяйский скот, коровни и овчарни,
Конюшни, птичник, огород, свинарни
Управляющего под началом были.
Вилланов сотни у него служили.
Он никогда не попадал впросак.
Пастух ли, староста, слуга ль, батрак —
Всех видел он насквозь, любые плутни
Мог разгадать, лентяи все и трутни
Его страшились пуще злой чумы[16]
Работа управляющего, который должен был досконально изучить все сельскохозяйственные операции, была отнюдь не простым делом, ведь только некоторые глупцы из числа нынешних горожан могут думать, что занятие сельским хозяйством — это неквалифицированный труд. Для земледельца год начинался в сентябре, как только был собран урожай. Вслед за тем нужно было вспахать землю и посеять озимую пшеницу или рожь, если для пшеницы почва была слишком песчаной. Плуг состоял из двух брусьев — грядилей — расположенных один над другим и скрепленных вертикальными распорками; к переднему концу нижнего грядиля крепился изогнутый заострённый кусок железа — лемех, который подрезал снизу пласт земли и переворачивал его; перед лемехом помещался другой кусок железа, имевший форму ножа, — плужный резец, или кольтер, намечавший борозду; задняя часть плуга была образована двумя деревянными вертикальными рукоятками, каждая из них крепилась к нижнему грядилю, а левая — ещё и к верхнему; налегая на рукояти, пахарь вёл плуг. Тяжёлый саксонский плуг тянули восемь быков, однако для более лёгкого плуга достаточно было четырёх или даже двух быков. «Искусство пахаря состоит в том, чтобы заставить быков идти ровно, не понукая их ни хлыстом, ни уколами, ни иными обидами. Такой человек не может быть склонен к унынию или гневу, он должен быть жизнелюбив, весел и дружен с песней, чтобы своими напевами подбадривать быков в их работе. Пахарь должен задавать быкам корм собственными руками, он должен любить своих быков, ночевать при них, чистить и обтирать их соломой, заботясь о том, чтобы они содержались в холе и чтобы никто не воровал их корм».
Иногда в плуг впрягали лошадей, однако они обходились дороже, потому что лошадей нужно было лучше кормить и постоянно перековывать, и хотя лошади могли продвигаться довольно быстро, средневековые пахари предпочитали не торопиться и придерживали их, чтобы их шаг был сродни шагу быков. Когда зерно было брошено в землю, приступали к боронованию, чтобы прикрыть его слоем почвы. Борона представляла собой очень большую и тяжёлую решётку из толстых дубовых брусьев, пересекавшихся под прямым углом, нижняя часть которой была унизана рядами деревянных зубьев. Быки медленно тянули борону по полю, она дробила комья земли, засыпая лежавшие в земле зёрна.
В хороший год к Михайлову дню (29 сентября) леса были полны желудей и буковых орешков — превосходного корма для свиней, которых в этот период выгоняли пастись в лес. В ноябре снова принимались за пахоту, чтобы подготовить землю к весеннему севу, затем большую часть быков забивали, а мясо солили, потому что было трудно прокормить большое количество скота в течение целой зимы одним только сеном: ведь ни корнеплоды, ни комбикорма, используемые в наши дни, тогда не были известны. В декабре почти не было работы вне дома, но на гумне хватало дела для молотильщиков, которым предстояло вышелушить зерно из колосьев ударами своих цепов — деревянных дубинок, соединённых при помощи кожаных ремней. В январе приходило время отелиться коровам; кроме того, в январе-феврале пора было проверить состояние канав и живых изгородей, в эти же месяцы уже можно было сажать горох и бобы на корм скоту. Март был полон забот: в это время сеяли овёс, рожь и, главное, ячмень, который уступал по важности только пшенице, потому что из него делали солод для приготовления эля, который наши предки пили в огромных количествах. Апрель был самым хлопотным месяцем в молочном хозяйстве: сбивали масло и варили сыр, для чего в прежние времена предпочитали брать овечье молоко. Наступало время сеять лён и коноплю, которые имели большое значение в ту эпоху, когда хозяйки сами пряли и сами ткали холсты. В мае нужно было перепахать поля, которые были оставлены под паром. В июне необходимо было пропалывать посевы, в этом же месяце мыли овец и стригли шерсть. К началу июля старались управиться с покосом, затем начиналась жатва, продолжавшаяся в августе наряду со сбором прочих плодов, после чего работники могли отпраздновать окончание уборки урожая, усевшись за пиршественный стол и побаловав себя в преддверии следующего года гусём да крепким элем.