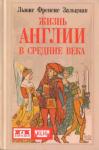В Средние века идея гражданской принадлежности имела мало общего с идеей принадлежности к определённому государству. В наши дни житель Дарема или Эксетера с гордостью назовёт себя англичанином, но в прежние времена каждый из них, вероятнее всего, похвалялся бы, подобно святому Петру, тем, что он «гражданин несравненного града». Каждый бург был небольшим государством, ревниво относившимся ко всем своим соперникам; на протяжении двух столетий жители Ярмута находились в состоянии непрекращающейся вражды с союзом городов Суссекса и Кента, известных как «Пять портов». Время от времени на почве этой вражды разгорались настоящие войны, уносившие сотни жизней, при этом жители «Пяти портов» ещё находили время атаковать своих конкурентов, живших в Портсмуте и Фауи, а горожане Ярмута сражались с расположенным по соседству Горлестоном. И пусть города, расположенные в глубине страны, прибегали к менее насильственным методам, они всё же бдительно следили за тем, чтобы никто из иноземцев не посягал на их привилегии. Иногда делались исключения в пользу определённых городов: Ноттингем заключил договоры с Дерби и Ковентри, а Саутгемптон — с Винчестером и Солсбери. По такому договору каждый из городов освобождал бюргеров другого города от уплаты пошлин; по тому же принципу действовали Лондон и Норидж, чтобы создать благоприятные условия для торговли с французскими городами: Амьеном, Корбейем и Неслем. Особые привилегии имели в Лондоне представители Ганзейского союза — крупного торгового альянса портовых городов Северного и Балтийского морей.
Но хотя обычно «иноземцев», прибывших с торговыми целями, обязывали платить налог и не разрешали им селиться в городе, если те не вступили в купеческую гильдию, подобные ограничения в ряде случаев могли всё же смягчаться в интересах самой городской общины. В XVI веке, когда Честер сильно обнищал, было объявлено, что любой, кто способен обучить искусству изготовления высококачественных тканей, может прийти и беспрепятственно торговать в этом городе. А когда честерские пекари начали забастовку из-за того, что им не позволили поднять цены на хлеб, мэр огласил постановление, по которому всякий мог привозить в город хлеб на продажу. Последний пример показывает, каким было отношение властей к тем, кто слишком явно стремился к наживе: торговец считался слугой городской общины, имеющим право на разумную прибыль, но ни в коей мере не на чрезмерную. Когда честерские мясники объявили забастовку, требуя повышения цен, мэр незамедлительно позаботился о том, чтобы большинство из них очутились за решёткой, и — поскольку стояла неимоверная жара, а тюрьма была переполнена — заключённые пережили крайне неприятные часы и поспешили раскаяться в своём недостойном поведении.
Суды бургов были завалены делами о правонарушениях в области торговли, потому что средневековые торговцы не пренебрегали ни одним способом заработать нечестный пенни. Первое место за изобретательность по части мошенничества нужно присудить, пожалуй, лондонским пекарям: когда заказчик приносил тесто на хлеб, пекарь выкладывал его на прилавок, чтобы разделать его на буханки, а в этот момент спрятанный под прилавком мальчишка отворял крошечный люк и воровал тесто прямо под носом у заказчика. По сравнению с таким ловким фокусом использование неточных весов и низкосортных материалов, сбыт позолоченной меди под видом золота и продажа поддельных товаров в темное время суток при тусклом мерцании свечей представляются топорной дешёвкой. Мошенничество каралось штрафом и тюремным заключением, иногда провинившийся должен был на потеху толпе сидеть с ногами в колодках или стоять привязанным за руки и за голову у позорного столба. Порой старались, чтобы назначенное наказание соответствовало характеру преступления: торговца, продавшего негодное вино, насильно поили им, а остаток выливали виновному на голову; тому, кто для своих собственных нужд отводил воду из общественной системы водоснабжения, водружали на голову дырявую бадью и, постоянно доливая её, проводили преступника в таком виде через весь город; а продавец тухлого мяса должен был не только стоять у позорного столба, но ещё и в полной мере «насладиться» ароматом своего товара, когда это мясо сжигали прямо перед его носом. Вечными нарушителями были пекари, чьи буханки, как правило, никогда не дотягивали до положенного веса, и пивовары, пренебрегавшие всеми ограничениями относительно качества и цены эля. Почти в каждой из средневековых поэм, повествующих о городской жизни, можно встретить упоминание о недобросовестных пекарях и пивоварах, а в народном представлении на религиозные темы «Муки ада», после того как все души уже освобождены, Дьявол просит позволения оставить себе одну, и в конце концов ему отдают душу пекаря — шутка, которая, несомненно, была рассчитана на отклик аудитории. В годы правления Ричарда II автор «Видения о Петре Пахаре» писал:
Женщины, которые пекут хлеб и варят пиво, мясники и держатели таверн —
Всё это люди, причиняющие зло бедняку.
Они наносят вред беднякам, которые могут купить всего лишь на пенни,
Втихую отравляя их раз за разом.
Эти люди богатеют, продавая в розницу то, чем должен кормиться бедняк.
Они покупают дома и становятся землевладельцами.
Если бы они продавали свой товар по честным ценам, им никогда бы не удалось понастроить таких хором
И никогда бы они не нажили столько добра.
Мэры и городские чиновники, правая рука короля,
Связующее звено между королём и народом, чья обязанность — блюсти закон,
Должны покарать недобросовестных торговцев, надеть на них колодки, поставить их к позорному столбу.
В большинстве случаев пивоварами были женщины, и не стоит представлять себе огромные пивоварни современного типа, которые развозят свою продукцию по многочисленным барам. В каждой таверне варили собственный эль, и когда он был готов, над дверями закрепляли специальный знак — шест с веткой или пучком листьев на конце. Иногда эти «пивные шесты» достигали такой длины и были настолько тяжёлыми, что могли повредить фасад дома, на котором крепились, и представляли серьёзную угрозу для тех, кто ехал верхом по узкой улочке; поэтому в Лондоне шесты длиной более 7 футов[22] были запрещены. В каждом районе города были должностные лица, известные как «знатоки эля» или «дегустаторы эля», в их обязанности входило посетить таверну после того, как был выставлен шест, и снять пробу с эля. Если товар оказывался некачественным, весь сваренный эль подлежал конфискации и таверна могла быть даже закрыта. Но если эль был хорошим, пивовар получал разрешение продавать его и вполне мог рассчитывать на прибыльную торговлю, потому что на добрый эль всегда находились покупатели. В поэме «Видение о Петре Пахаре», написанной в XIV веке, есть небольшая зарисовка, позволяющая нам представить себе одну из лондонских таверн и её завсегдатаев: Обжора, олицетворение одного из семи грехов, раскаявшись, рано утром идет в церковь, но тут, на свою беду, он встречает Бетти, которая говорит, что она сварила прекрасный эль и уговаривает Обжору отведать его. Дальнейшие события автор поэмы описывает так:
И вот Обжора входит, его приветствуют божбой и проклятиями.
Сис-швея, сидя на лавке,
Уолт-егерь и его жена — оба пьяные,
Том-лудильщик и двое его подмастерьев,
Хик-извозчик, Хогг-портной,
Клариса из Кок-Лейн и приходской клерк,
Батюшка Пьер из Прэй-ту-Год и Пернел-фламандка,
Доу-землекоп и ещё дюжина других,
Уличный музыкант, крысолов и чипсайдский мусорщик,
Канатчик, лакей и Роза-лавочница,
Ночной сторож, отшельник и тибурнский палач,
Годфри — торговец чесноком и Гриффин-уэльсец —
Все они поутру радостно приветствовали Обжору,
Приглашая его отведать доброго эля.
Раздавались смех и болтовня, и пели «Чаша идёт вкруговую»,
Сделки заключались меж тостов и песен — так продолжалось до самой вечерни,
И Обжора пропустил в глотку галлон и ещё добавил джилл сверху.
Он не мог сделать ни шагу, не мог даже устоять на ногах, не опираясь на палку,
Потом потихоньку двинулся вперёд, как собака слепого музыканта:
Сначала его повело в одну сторону, затем в другую, а местами он даже пятился назад,
Подобно тому, кто выкладывает верёвочные петли, чтобы наловить диких птиц,
И вот, когда Обжора добрался до дверей, в глазах у него помутилось,
Он запнулся о порог и растянулся на полу.
Картина не слишком привлекательная, но зато очень жизненная. В описании Лондона, составленном в XII веке Уильямом Фиц-Стефаном, «неумеренное пристрастие глупцов к выпивке» названо второй моровой язвой, приносившей беды городу, а отчёты следствий по делам об убийствах показывают, как много смертей было связано с несчастными случаями и стычками, происходившими на почве пьянства.
Только что упомянутое произведение Фиц-Стефана является старейшим и почти единственным в средневековой литературе описанием города. Фиц-Стефан начинает с восхваления местоположения Лондона и преимуществ его климата. Нужно учитывать, что в Средние века Лондон соответствовал тому району, за которым в наши дни сохраняется название «Сити» (букв, «город»). Его окружённая стенами территория простиралась от Тауэра на востоке до Лудгейта на западе и была ограничена с севера Холборном, а с юга — Темзой. В конце XIV века население Лондона составляло всего 35 тысяч человек, но даже при этом оно втрое превосходило население Йорка, в то время как Бристоль с 9 тысячами жителей, Ковентри с 7 тысячами и Норидж с 6 тысячами были, по-видимому, единственными городами, численность которых превышала 5 тысяч человек. Во времена Фиц-Стефана население Лондона, возможно, было ещё меньшим, однако в черте города были расположены 136 приходских церквей (не считая собора св. Петра) и 13 монастырей. Обилие церквей было характерной чертой старинных городов: в Норидже имелся кафедральный собор и более 50 церквей, в Кембридже насчитывалось 15 церквей, и даже в таком крошечном городишке, как Льюис, было 8 церквей. Пространство вокруг города занимали огороды, пастбища и хлебные поля, за которыми начинался лес, где горожане имели право охотиться на оленей, вепрей и мелкую дичь. В стенах города ремесленники всех видов держали свои лавки, причём торговля товарами определённого вида была, как правило, сосредоточена на одной улице или в одном районе, так повелось с незапамятных времён, поэтому зерном торговали на Корнхилле (букв, «зерновой холм»), а рыбой на Фиш-Стрит (букв, «рыбная улица»), ремесленники, работавшие с металлом, селились в Лотбери, ювелиры — на Чипсайде, а торговцы мануфактурными товарами — в районе нынешней Каннон-Стрит. На берегу Темзы, неподалёку от винных пристаней, находились съестные лавки, где в любое время можно было найти приготовленные всевозможными способами мясо, рыбу, птицу, жареное мясо, запечённое мясо, рагу и мясные пироги. Именно в эти лавки бежали слуги тех, к кому нагрянули многочисленные нежданные гости; здесь было достаточно припасов, для того чтобы досыта накормить войско рыцарей или отряд паломников, здесь эпикуреец мог найти осетра, вальдшнепов или ортоланов[23]. Однако здесь же — о чём не говорит Фиц-Стефан, но что известно из других источников — покупатель вполне мог отравиться пирогом, начинённым испортившимся мясом. Съестной ряд, должно быть, представлял собой оживлённую картину, насыщенную запахами и наполненную гамом, потому что каждый торговец громко расхваливал свой товар. В «Видении о Петре Пахаре» об этом говорится так:
Торговцы съестным и их помощники кричали:
«Горячие пироги, все пироги горячие,
Добрая свинина, добрый гусь; заходите, заходите и пообедайте».
Им вторили владельцы таверн:
«Глоток вина за просто так,
Белое вино, красное вино, чтобы прополоскать горло после жаркого».