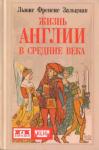Городские власти осознавали, какую угрозу таит в себе антисанитария, и постоянно предпринимали усилия к тому, чтобы улучшить положение дел, но серьёзным переменам препятствовал фатализм необразованных горожан, которые, подобно туркам или индийцам, верили, что болезни даются от Бога, и совсем не старались их избежать. Первый общегосударственный закон об улучшении санитарных условий, обязательный к исполнению во всех городах, был принят в 1388 г. на заседании парламента, состоявшемся в Кембридже, и его появление, по-видимому, было вызвано необычайной загаженностью этого учёного королевского города. Суть нового закона сводилась к общему запрету на загрязнение рек, канав и пустырей, и, по существу, он всего лишь обеспечивал парламентскую поддержку муниципальным постановлениям подобного рода, уже существовавшим к тому времени во всех крупных городах. Другие менее опасные, но тем не менее весьма неприятные аспекты городской жизни тоже регламентировались местным законодательством: производства, которым сопутствовал неприятный запах — выделка кож, их дубление и обжиг кирпича, — обычно выносились на городские окраины. Пытались также не допускать использования при обжиге негашёной извести каменного угля вместо древесного. Крайне любопытным фактом является то, что загрязнение воздуха едким дымом, возникающим при сгорании каменного угля, представляющее и теперь острейшую проблему, уже вызывало нарекания больше шести веков тому назад, когда благочестивая королева Алиенора Прованская — страдавшая астмой супруга Генриха III — вынуждена была покинуть Ноттингем из-за этого удушающего дыма.
ГЛАВА 3
ДОМАШНИЙ БЫТ
Когда речь заходит о жилищах наших предков, становится очевидным разделение общества на три класса, потому что мы должны говорить о хижинах рабочего люда, о домах людей среднего сословия и о замках или дворцах знати. Описание бедняцкой лачуги не займёт слишком много времени, ибо она обеспечивала лишь тот минимум, который был необходим человеку, чтобы защититься от сырости и холода, — четыре стены и крыша. Стены были глинобитными, или мазанковыми: каркасом служили вертикальные шесты, переплетённые ивовыми прутьями либо другим гибким древесным материалом; этот каркас обмазывался глиной, которую тщательно вбивали в зазоры между прутьями. В одной из стен оставляли проём для входа, иногда делали дверь, иногда — нет. В стенах хижины обычно было одно-два небольших отверстия — окна, через которые проникал свет. Довершали картину соломенная крыша и земляной пол. Хозяин дома и его семейство жили в одном-единственном помещении, закопчённом древесным дымом от костра, который зимой или в сырую погоду, когда нельзя было готовить пищу на улице, разводили прямо посреди жилища; обстановку хижины составляли стол, несколько грубых табуретов, сундук, железный котёл да какое-то количество мисок, кружек и кувшинов из глины, постелью служили охапки соломы или папоротника-орляка, покрытые суровыми шерстяными пледами. Однако нам не стоит чрезмерно сожалеть об участи средневековых бедняков, ведь представления человека о том, плохо или хорошо ему живётся, зависят во многом от того, к чему он привык, и в какой-то мере от того, лучше или хуже живётся его соседям. «Сравнение — вот причина забот и печалей», особенно в том случае, когда человек сравнивает свою участь с тем, на что он имеет основания притязать. В наши дни удел рабочих, чьи семьи также вынуждены ютиться в одной-единственной комнате в мрачном доходном доме или в грязной лачуге в шахтёрском посёлке, куда более горек: ведь они знают, что другие представители их же класса живут в сравнительно комфортабельных домах; но средневековый крестьянин жил намного хуже, чем мелкий фермер, на которого он работал, и часто его жизнь не слишком сильно отличалась даже от того, как жил сам лорд манора. Уильям Харрисон, живший в эпоху Елизаветы, когда Средневековье уже миновало, рассказывает, что старожилы в его деревне говорили о «превеликом улучшении обустройства жилища; потому что, — вспоминали они, — отцам нашим, да и нам тоже, нередко приходилось спать на соломенных тюфяках, покрытых одною только простынёй, под одеялами из клочьев свалявшейся шерсти да плетей хмеля (таковы их собственные слова), подложив под голову вместо валика или подушки добротное круглое бревно. Если кому-то из наших отцов — или достойному человеку из домочадцев — случалось лет через семь после женитьбы приобрести матрас или даже полную постель, набитую шерстью, да вдобавок ещё ворох кострики, чтобы подложить под голову, ему казалось, будто он устроился с великолепным удобством, словно лорд, владеющий целым городом, которому, вероятно, тоже не всегда приходилось почивать не то что на пуховом ложе, но и в постели, набитой пером. И настолько были довольны своей жизнью наши предки, что их устраивало даже это примитивное убранство, каковое ещё сохраняется в прежнем виде без особого улучшения в Бедфордшире и кое-где вдали от южных областей страны. Подушки в постелях (говорили они) считались уместными только для рожениц. Что же касается слуг, то хорошо, если у них была простыня, которой они могли укрыться сверху, потому как очень редко у них было что подстелить под себя, дабы защититься от колких соломин, протыкавших холщовый тюфяк и царапавших их огрубевшую кожу».
На противоположном полюсе общественной иерархии мы видим замки крупной знати. Нормандские аристократы, воспитанные как воины и пришедшие в Англию как ненавистные завоеватели, естественно, заботились в первую очередь о безопасности и строили для себя замки. Почти в каждом городе, большом или маленьком, был возведён такой замок — и вовсе не для того, чтобы оборонять город, а для того, чтобы держать его жителей в благоговейном страхе. Даже спустя некоторое время, когда нормандцы стали правителями и могли больше не опасаться восстаний, строительство замков продолжалось — теперь они служили для защиты от враждебных соседей-лордов. О военном назначении замка мы поговорим в девятой главе, если же рассматривать его как жилище, то большинство замков едва ли были бы сочтены привлекательными в последующие эпохи, привыкшие к большей роскоши. Типичный замок состоял из двух частей: двора, окружённого рвом и стенами, и главкой башни — массивной постройки, стоявшей обычно поодаль от центра двора на искусственной насыпи. И небольших замках жилые помещения находились и главной башне, однако если внешние укрепления были достаточно мощными, то считали более удобным размещать жилые апартаменты на территории двора и либо пристраивать их к внешней стене, либо строить для них особый дом в пределах защищённой территории. В любом случае роль главной комнаты играл большой зал, где владелец замка, всё его семейство и слуги обедали, проводили своё свободное время и где спали многие из домочадцев. Этот зал часто представлял собой (как, например, в Океме и Винчестере, где подобные залы сохранились до наших дней) довольно просторное помещение, разделённое продольными рядами столбов и напоминавшее церковный неф. Правда, одна из его стен могла быть частью укреплений замка, и тогда вместо окон на этой стороне зала делали узкие щели. На одном конце зала обычно находилась кухня, к нему также должны были примыкать часовня и спальни, расположение которых определялось военным назначением замка. Со временем жизнь стала более обеспеченной и приобрела черты роскоши, усилившаяся центральная власть пресекала феодальные усобицы, и замки постепенно утратили характер военных сооружений, превратившись просто в укреплённые дома, построенные достаточно надёжно, чтобы дать отпор в случае внезапного нападения, но без расчёта на то, чтобы выдержать осаду; так они переродились в дворцы эпохи Тюдоров вроде Хэмптон-Корта.
Главной чертой средневекового дома — даже в большей степени, чем замка, — был холл. Холл представлял собой комнату, длина которой была в полтора-два раза больше её ширины. На дальнем («высоком») конце холла стоял, обычно на помосте, высокий стол, за которым сидели глава дома, его семья и гости, а под прямым углом к этому столу тянулись вдоль стен столы для слуг. Посреди холла в каменном очаге пылал огонь, дым от которого выходил наружу через «лувр» — отверстие в крыше, прикрытое сверху башенкой без стенок; дым от очага оставлял чёрную копоть на стропильных балках, а если это был дом фермера, то ещё и на висевших под крышей кусках копчёной свинины и солёной говядины. Поначалу кушанья готовили и ели непосредственно в холле, и, возможно именно для того чтобы оградить себя от шума, запаха и жара, неизбежно сопряженных с приготовлением пищи, стали устанавливать поперёк «нижнего» конца холла деревянную перегородку или ширму. Такая перегородка с двумя дверями оставалась непременной чертой средневекового холла даже в тех случаях, когда для кухни была сделана особая пристройка со стороны его «нижнего» конца; в больших домах перегородка обычно поддерживала галерею, где во время трапез играли музыканты. В проходе за перегородкой в боковой стене была дверь на улицу (обычно оформленная крыльцом), а в торцовой стене были три двери, из которых средняя вела в кухню, а две другие — в кладовую, где хранился эль, и в буфетную либо кладовую для хлеба. Таков был типичный план «нижнего» конца холла, в чём можно убедиться на примере большинства колледжей Оксфорда и Кембриджа. В небольших домах планировка могла быть несколько иной, но, как правило, она не имела существенных отличий. На «высоком» конце холла находилась дверь, ведущая в покои, то есть в семейную спальню, которая в дневное время выполняла также роль будуара (женских апартаментов). Начиная с XII века дом стали разделять со стороны «высокого» конца холла на два этажа, комната внизу служила гостиной для приёмов и семейного времяпрепровождения, а комната наверху — «солар» (то есть «солнечная комната», «светлица», — от латинского «sol» — «солнце»), куда поднимались по внешней лестнице, была спальней. Эти комнаты обогревались встроенными в стену каминами с дымоходом, и когда в XIV веке стенные камины полностью пришли на смену очагу в центре холла, исчезла необходимость в том, чтобы холл имел высоту до самой крыши. Мы видим, как постепенно, начиная с эпохи Тюдоров, всё меньше и меньше домов строились с холлами во всю высоту здания, и всё чаще и чаще старинные холлы разбивались на два или три этажа, так что иной раз первоначальный план дома оказывался изменённым до неузнаваемости. И ныне можно удостовериться в том, что перед нами средневековый дом, только если взобраться под самую крышу и отыскать балки и стропила, закопчённые дымом от очага, некогда находившегося посреди главной комнаты.
В резиденциях знати в окнах могли быть вставлены витражи, а вот в обычных домах окна не были застеклены — до XVI века стекло считалось предметом роскоши. Иногда в оконные проёмы вставляли металлические или деревянные решётки, которые при необходимости затягивали промасленным льняным полотном, однако куда чаще окна оставались открыты порывам ветра и струям дождя, и, чтобы защититься от них, нужно было затворить имевшиеся на окнах дубовые ставни. Стены были оштукатурены и расписаны яркими красками, иногда на них изображали либо сцены из библейской истории, рыцарских романов и преданий о жизни святых, либо аллегорические фигуры вроде «колеса Фортуны» или «Зимы» «с унылым и несчастным лицом», которую повелел написать над камином в одной из своих комнат Генрих III. В XV веке в связи с ростом благосостояния вошло в моду завешивать стены роскошными гобеленами и восточными вышивками. Даже в более ранние времена существовал обычай затягивать стену за скамьями в холле полосой яркой материи и делать вставку из более дорогого материала, нередко придавая ей форму балдахина, который находился над местом хозяина и хозяйки дома в центре высокого стола.
Столы, которые в большинстве случаев представляли собой переносную конструкцию из козел и положенной на них доски, непременно застилали скатертью — льняным полотном. На этой скатерти раскладывали ложки и ножи — вилки были в Англии редкостью даже во времена Елизаветы — и расставляли деревянные или глиняные чаши и кувшины. В богатых домах было принято устраивать обширную выставку золотой и серебряной утвари: чаш, солонок и даже сугубо декоративных предметов вроде «нефа» — настольного украшения в виде искусно выполненного корабля из серебра или золота; драгоценная посуда, не помещавшаяся на столе, красовалась в буфете, который пережил превращение из полки для чаш и мисок и сервант для роскошной утвари. В дни процветания и XV веке во многих домах место прежних деревянных тарелок заняла посуда из оловянно-свинцового сплава (pewter), которым славилась Англия. Тарелками из глины, скорее всего, не пользовались, поскольку мясо либо ели прямо с общего блюда, что бывало нередко, либо клали куски жаркого на толстые ломти хлеба, которые потом отдавали беднякам. Кости, и так почти дочиста обглоданные обедавшими, швыряли к дверям — для собак. И если учесть, что пол в холле застилали тростником или соломой, которые заменяли не так уж часто, вполне можно представить себе, как неопрятно выглядело это помещение и как ужасно там пахло — именно этим английские дома неприятно поразили Эразма Роттердамского[24]. Застольные манеры заметно облагородились, когда в обиход вошли ковры, однако это произошло сравнительно недавно, потому что обычай стелить ковры считался иноземной модой и признаком невероятной роскоши.
Эндрю Борд, проницательный врач, живший при Генрихе III, писал: «Большинству людей достаточно принимать пищу дважды в день, те, кто занят физическим трудом, могут есть три раза, а тот, кто ест чаще, живёт, как скотина». Две трапезы, общие для всех, — это обед в 10 или в 11 часов утра, и ужин, обычно в 4 часа пополудни; завтрак как обязательный приём пищи в литературе почти не упоминается, хотя, возможно, большинство начинало свой день с глотка эля, заедая его хлебом, но зато любители роскоши имели пристрастие к «поздним ужинам», которые часто подвергались осуждению из-за того, что служили поводом для пьянства. В обед и в ужин накрывали сытный стол, и, конечно же, от богатства хозяина зависело, что именно появлялось на нём. Английский крестьянин, в отличие от большинства своих собратьев в других европейских странах, ел мясо — бекон, говядину — почти каждый день, а также ел хлеб и сыр; дворянин средней руки, обедая в кругу семьи, заказывал два-три мясных блюда и десерт, тогда как за столом у знатного лорда, которого традиция обязывала держать дом открытым и оказывать гостеприимство всем пришедшим, накрывали две или три перемены, в каждой из них было десятка по два различных блюд — причём мясо, рыба, дичь и сладости подавались вперемежку без особого порядка; венчали трапезу фрукты и орехи. В самых знатных и богатых домах обед, начиная с того момента, когда на стол стелили скатерть, и до того, как её убирали, проходил в соответствии церемониальным порядком, сопоставимым по строгости с церковной службой, и умение подобающим образом разделывать за столом бесчисленные виды мясных блюд было обязательным элементом воспитания человека благородного происхождения. В обществе с более простыми нравами в тот момент, когда мясо подавали на стол и сотрапезники могли приступить к угощению, нередко возникали потасовки, не говоря уже о том, что требования хорошего тона, как-то: мыть руки перед едой, придерживать нарезаемое мясо только тремя пальцами и не ковырять в зубах ножом, — можно было попросту проигнорировать.
Во многих домах основу трапезы составляли плотные, сытные яства: говядина, баранина или знаменитая кабанья голова, ассоциирующаяся у англичан с рождественскими праздниками. Всё подавалось на стол, и всё-таки средневековая кухня была гораздо более изысканной, чем принято думать. Широко распространены были самые различные супы, рагу, мясные пироги, оладьи с припёками, желе и тому подобное; дошедшие до нас кулинарные рецепты XV века говорят о том, что приготовление многих блюд требовало немалого усердия, ибо они состояли из различных тщательно подобранных компонентов, среди которых было значительное количество приправ. Для примера достаточно привести рецепт излюбленного кушанья под названием «leche lumbard», которое представляло собой нечто вроде сервелата или немецкой колбасы: «Возьми свинины и изотри её в ступке вместе с яйцами; добавь сахару, соли, изюму, смородины, измельчённого миндалю, молотого перцу и гвоздики; набей этим мочевой пузырь и вари, затем нарежь ломтями». Это блюдо подавали с подливой, приготовленной из изюма, красного вина, миндального молочка, подкрашенного шафраном, корицы, имбиря, гвоздики и перца. Важное место в средневековой кухне принадлежало рыбе, особенно тогда, когда нельзя было есть мясную пищу: во время Великого поста и в другие постные дни, к каковым относились все пятницы. Самой популярной рыбой была сельдь, которую ели и сырой, и засоленной, и копчёной, однако в целом средневековое меню включало в себя все известные виды рыбы — от совершенной мелюзги до кита. Что касается фруктов, то в сельских садах росло несколько разновидностей груш (например, «wardens» славились тем, что были необычайно хороши в пирогах) и яблок, а также вишни, сливы и чернослив. Гранаты и апельсины, привозимые из Испании, были роскошным лакомством для богатых, а вот земляника со сливками составили великолепное сочетание, вкус которого как в Средние века, так и в наши дни по достоинству оценили представители всех слоёв общества. Из земляники, барбариса и других плодов делали консервы в виде засахаренных фруктов и джемов, а вот мармелад, первоначально приготовлявшийся из айвы, был ещё одним испанским деликатесом. В Англии пили многие сорта вин из Франции, Испании и Леванта, однако общим для всех категорий населения напитком был эль, потреблявшийся в непомерном количестве. В каждом доме варили свой собственный эль, эль и хлеб составляли особую группу продуктов, качество и стоимость которых должны были контролировать местные власти. В XV веке голландцы, которых было довольно много в Лондоне и восточных графствах, ввели в обиход пиво — опьяняющий напиток на основе солода, похожий на эль, но более горький и крепкий за счёт добавления хмеля. Поначалу пиво был объявлено отравой, однако оно быстро завоевало популярность и к концу Средних веков уже заметно потеснило эль в роли всенародного напитка.
Обед, столь же длительный, сколь и плотный, зачастую сопровождался музыкой, её могли исполнять либо музыканты, игравшие на галерее «нижнего» конца холла, либо один из странствующих менестрелей или арфистов, чей репертуар состоял из баллад о Робине Гуде и о рыцаре Ланселоте, последних куплетов на злобу дня, высмеивающих кого-либо из непопулярных министров, а также хвалебных импровизаций в честь хозяина дома и его гостей. После того как со столов всё было убрано, дамы удалялись в свои покои, а мужчины оставались в холле и пили. Затем, если была хорошая погода, следовали танцы на свежем воздухе на траве, особенно прославились англичане своими «каролями» (Caroles) — весёлыми танцами, сопровождавшимися пением. Более искусными, чем эти простые, но полные грации деревенские танцы, были танцевальные представления под названием «morris dances», считавшиеся изобретением мавританского населения Южной Испании, когда танцоры с посохами в руках и в костюмах, унизанных колокольчиками, исполняли сложные фигуры. «Morris dances» получили особое распространение как одно из рождественских и новогодних увеселений наряду с «mummings» — ряжением, участники которого, надев экстравагантные костюмы и маски, разыгрывали небольшие сценки или гротескные балеты. Любовь к разнообразным Нарядам, присущая как глупым детям, так и мудрейшим из взрослых, в Средние века была очень сильна, даже короли и знатнейшие сеньоры не отказывали себе в этом удовольствии — был бы только подходящий повод. Таким поводом было время Рождества, когда в холле царило веселье: пиры чередовались с танцами, выступлениями ряженых и всевозможными играми. Самыми популярными среди игр были «горячие раковины» («hot cockles», аналог русской игры «жучок») и «слепец в колпаке» («hoodman blind», аналог русских жмурок). Первая из них заключалась в том, что один из участников с завязанными глазами становился на колени, а другие ударяли его — причём довольно сильно, — и водящему нужно было угадать, от кого ему достался тот или иной удар; во второй игре водящий закрывал глаза, натянув задом наперёд свой капюшон, а затем должен был ловить остальных игроков. Все эти шумные забавы возглавлял «господин беспорядка» (Lord of Misrule), роль которого исполнял один из слуг, одетый в фантастический костюм. Этот слуга получал неограниченную власть рождественского короля, и его приказаниям должен был беспрекословно следовать даже сам глава дома. Правда, если «господин беспорядка» был достаточно мудр, он не позволял себе чрезмерных вольностей, памятуя о том, что рождественские праздники бывают только раз в году и с их завершением придёт конец его недолгому правлению — он снова превратится в простого слугу, судьба которого во многом зависит от хорошего отношения хозяина.