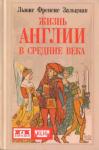В летнюю пору после обеда дамы шли гулять в сад, они рвали цветы и плели из них венки, ведь наши предки питали настоящую страсть к цветам и при каждом большом доме был свой сад. В саду росли розы, лилии, левкои, бархатцы, барвинки, а также душистые растения, служившие для ароматизации воздуха в комнатах: лаванда, розмарин, можжевельник, — и сверх того множество различных трав, применявшихся в медицине и кулинарии. Нередко в саду проходили трапезы, в Средние века устраивали порой даже пикники, хотя не столько ради удовольствия поесть на свежем воздухе, сколько за отсутствием другого способа организовать обед во время охоты. Псовая и соколиная охота занимали первое место среди спортивных развлечений сельского дворянства, правда, в отличие от современных охотничьих традиций, лису не считали достойной добычей, видя в ней просто вредителя, подобно диким кошкам и волкам (которых в XIII веке ещё немало водилось в Англии), то есть как животное, которое преследуют для того, чтобы уничтожить, а не ради спортивного интереса. Настоящей добычей для охотника были олени, дикие кабаны и зайцы; эту дичь охраняли очень строгие законы. Дамы принимали участие в охоте на оленя или зайца и в соколиной охоте. И последнем случае охотились на водяных птиц: уток, журавлей, цапель, — для этого существовало несколько разновидностей соколов и ястребов, ценившихся чрезвычайно высоко. Соколы нередко упоминаются в числе подарков, которые король преподносил тем, кого он хотел отличить, и бывали случаи, когда ради выздоровления больного сокола совершали паломничество к мощам святых. Для нужд охоты держали также свору гончих псов: спаниелей — чтобы поднимать птиц для соколов и ястребов, борзых — чтобы преследовать оленя или зайца, и неопределённого вида собак типа мастифов — для того чтобы охотиться на грозных кабанов. Насколько можно судить по известным нам изображениям, в XV веке было ничуть не меньше пород собак, чем в XX: начиная с огромных и свирепых сторожевых псов до комнатных собачек, в которые не чаяли души дамы. Главными любимцами были мальтийские спаниели: «они такие маленькие и такие симпатичные, такие изящные и такие славные, что их разыскивают в далёких землях и поблизости, повинуясь привередливому вкусу изысканных дам и неуёмным женским желаниям; они служат предметом безрассудной прихоти и к тому же предлогом для безделья, ведь, забавляясь с ними, дамы понапрасну растрачивают драгоценное время, отвлекаясь от более достойных дел, — жалкое ухищрение, чтобы скрасить свою докучливую праздность. Чем меньше щенки по величине, тем больше приносят радости, тем больше с ними возятся; они становятся неразлучными дружками своих хозяек, которые носят их за пазухой, укладывают спать на кровати и подкармливают мясом за столом; когда дамы сидят в повозке или отдыхают на ложе, сии питомцы устраиваются у них на коленях и лижут их в губы... Некоторые из подобных людей больше восхищаются своими собаками, лишёнными каких бы то ни было разумных способностей, чем детьми, которые наделены умом и здравым смыслом. Воистину, они нередко кормят своих любимцев самым лучшим, в то время как дети бедняка, ожидающие под дверьми, едва ли смогут получить даже что похуже». Есть основания полагать, что средневековые дамы питали слабость не только к комнатным собачкам: в 1387 г. епископ Винчестерский вынужден был сделать нескольким монахиням выговор за то, что они берут с собой в церковь «птиц, кроликов, гончих и прочие бирюльки, которым уделяют больше внимания, чем своим религиозным обязанностям». Конечно же в средневековых домах часто можно было видеть птиц в клетках: жаворонков и соловьёв держали ради их пения, сорок и попугаев, которых впервые привезли с Востока крестоносцы, за умение разговаривать; среди домашних питомцев иногда встречались белки и даже обезьяны, но вот котов, по-видимому, не считали годными на эту роль и держали их только потому, что коты умели ловить мышей.
Вернувшись в холл после прогулки в саду, после охоты или после более трудоёмких дел, домочадцы приступали к ужину, весьма похожему на предшествовавший ему обед. Трапеза могла быть несколько менее плотной, но зато, как правило, она была ещё более продолжительной, особенно в части, посвящённой питию. В то время года, когда темнело рано, необходимо было искусственное освещение, потому что, как отметил один средневековый автор, «ужинать в темноте позорно и, кроме того, опасно из-за мух и прочей гадости»; помещения освещали в основном свечами, самые плохие были из сала, самые лучшие — из очищенного пчелиного воска. Лампы, представлявшие собой сосуд с растительным или рыбьим жиром, в котором плавал хлопковый фитиль, хороши были только тем, что могли гореть длительное время, свет же они давали очень тусклый. Факелы из просмолённой древесины, хотя и горели ярко, очень сильно чадили и были источником немалой опасности. В ту эпоху было принято рано вставать и рано ложиться; даже во времена Шекспира «слышать, как колокола отбивают полночь» значило вести исключительно беспутную жизнь, а в Средние века после 6 часов утра оставались в постели только лежебоки, поэтому, за исключением середины лета, большинство домочадцев отправлялись на покой сразу же по окончании ужина. Если перед сном оставалось немного свободного времени, его можно было провести за спокойными играми в холле или в отгороженной от него гостиной, играли обычно на деньги. Самой известной и самой древней игрой были шахматы. Появились они, конечно же, на Востоке, но не позднее второй половины XI века распространились во всех западноевропейских странах. В средневековых рыцарских романах нередки истории о роковых ссорах из-за шахматной партии, а в наших музеях можно увидеть искусно изготовленные из слоновой кости шахматные фигуры XII и XIII веков, и, как известно, Эдуарду I были преподнесены шахматы из яшмы и горного хрусталя. Почти сравнимы по популярности с шахматами были «дощечки» (tablets) — игра, подобная нардам, для которой были нужны и кости, и шашки; упоминания о «дощечках» довольно часто встречаются в источниках, и, как видно, иногда игроков бывало несколько, поскольку мы знаем, что король Иоанн время от времени «играл в дощечки» со знатными сеньорами, такими как Пейн де Чаворт или Бриан де Лисль, и с богатым лондонским купцом Джоном Бакквинтом. Шашки, которые тогда назывались «дамами» (ladies), были не столь популярными, как шахматы, а вот в кости играли везде и всюду, партии длились очень долго, и порой на один-единственный бросок ставились целые имения. Карты, которые, подобно шахматам, считаются заимствованием с Востока, стали известны во многих европейских странах не позднее середины XIV века, но нет никаких свидетельств о том, что они появились в Англии раньше, чем столетие спустя; однако ко времени правления Эдуарда IV[25] карты уже были в ходу и стремительно завоёвывали популярность, хотя сведений о том, какой именно характер носили средневековые карточные игры, по-видимому, не сохранилось.
Средневековые представления о личной собственности существенно отличались от наших, для той эпохи не было ничего странного в том, что все члены семьи, — а также и гости — спали в одном помещении; действительно, им было бы просто трудно разместиться иначе, ведь в типичном доме была только одна спальная комната. В отличие от современных обычаев, все спали обнажёнными, так как до XVI века ночные рубашки были практически не известны. Во времени нормандцев кровати представляли собой подобие низкого деревянного топчана, позднее остов кровати стали делать более высоким и более изящным, изголовье тоже стало выше, теперь оно оформлялось панелью резного дерева или, что было чаще, вышитой материей, такое изголовье получило название «тестер» (от старофранцузского «teste» — «голова»); от верхней части изголовья шёл простиравшийся над кроватью балдахин с ниспадающими по краям занавесями, в дневное время их обычно подвязывали, но ночью занавески можно было задёрнуть так, чтобы кровать оказалась полностью скрытой. Венцом этого развития стал широко известный тип кровати с балдахином на четырёх полбах, который был весьма распространённым при Тюдорах и в последующие эпохи. Под высокой кроватью часто держали низенькую кровать на колёсиках, на ночь её выдвигали, и на ней спал слуга или кто-либо другой из людей низкого звания. Матрасы обычно были набиты соломой, но те, кто мог позволить себе такую роскошь, спали на перинах. Льняные простыни были в обиходе с древнейших времён, хотя, как мы говорили, слугам они не полагались; не счесть было шерстяных одеял и пледов, и поверх всего клали верхнее одеяло, стёганое или вышитое, а зимой — даже меховое. Многие вышивки отличались необыкновенной красотой, и «постель» (как полный набор соответствующих принадлежностей) почти всегда фигурировала в средневековых завещаниях, пренебрегать таким наследством никто бы не стал, поскольку в XV веке подобный комплект нередко стоил от 50 до 100 фунтов стерлингов.
Стены спальной комнаты могли быть обшиты деревянными панелями, но гораздо чаще их занавешивали гобеленами или расписными полотнищами. Из мебели в спальне должны были быть, по крайней мере, один стул возле кровати и сундук; могло быть ещё несколько стульев или табуретов, но в дневное время сама кровать тоже использовалась как место для сидения. Автор XII века говорил о том, что ещё из стены должны торчать два штыря: на один из них вешают одежду, а второй служит шестком для сокола или ястреба. Первое, безусловно, можно считать общим правилом, но сомнительно, будто очень многие обожали своих ловчих птиц до такой степени, чтобы держать их в спальне, — возможно, считалось, что для птиц будет лучше, если они выберут себе место самостоятельно.
В богатых домах в спальне обычно стояла тумба, на которую ставили металлический таз и кувшин. Средневековые книги по этикету говорят о том, что нужно было обязательно умывать лицо, мыть руки и чистить зубы каждое утро, но в них нет ни слова о необходимости время от времени принимать ванну. Раннеанглийский автор пишет о свойственной датчанам привычке мыться каждую субботу, трактуя её как свидетельство их щегольства, а средневековые монахи пошли ещё дальше, постановив, что принимать панну следует только в тех случаях, когда это необходимо для здоровья, и только по назначению врача. Из подробного описания повседневных занятий короля Иоанна видно, что этот монарх доставлял себе удовольствие принять ванну один раз в три недели. С другой стороны, в бесчисленных рыцарских романах можно прочесть, что первейшим жестом гостеприимства по отношению к посетившему замок страннику было приготовление для него ванны, и, как свидетельствуют иллюстрации к этим романам, в больших домах часто имелась своего рода ванная комната — занавешенный альков с большой лоханью. Мы не знаем, пользовались ли в целях личной гигиены мылом, но нам известно, что мыло наряду с щёлоком из древесной золы применяли при стирке. В этой связи любопытно отметить, что даже во времена Эдуарда VI прачки частенько теряли бельё и возвращали клиентам не те вещи: в описи гардероба эрла Уорика, относящейся к 1550 г., помечено, что две рубашки «были потеряны в прачечной в Или-Хаусе», а ещё одна была «подменена при стирке».
Итак, мы знаем, что почти на всём протяжении Средних веков в домах людей среднего сословия была только одна спальная комната. Конечно, это не относится к королевским дворцам и к дворцам высшей знати, но всё-таки даже там количество комнат для гостей было ограниченным, а условия, в которых жила челядь, никак нельзя назвать роскошными. Простые слуги спали если не в холле, то на кухне, в хозяйственных пристройках или там, где удавалось приткнуться; слуги рангом повыше делили друг с другом общую спальню, и, несомненно, им приходилось спать в общей кровати. Даже в хозяйстве могущественного рода Перси, эрлов Нортумберленда, ещё в конце XVI века священники спали по двое на одной кровати, а мальчики-хористы — по трое. Воистину, когда узнаёшь, каким был домашний быт в Средние века, поражаешься любопытному сочетанию роскоши и отсутствия комфорта, а также почти полной невозможности уединения. И хотя человек с положением имел по закону преимущества перед бедняком, что в наши дни представляется абсолютно неприемлемым, в те времена они всё же были ближе друг к другу, чем сегодня. В повседневной жизни пропасть между различными слоями общества начала увеличиваться вследствие роста благосостояния в конце XIV века. В самый канун крестьянского восстания 1381 г. автор «Видения о Петре Пахаре» писал по поводу распространившегося в среде сельского дворянства обычая обедать отдельно от челяди в своих личных покоях:
Достоин сожаления тот холл, где не сядут хозяин и хозяйка.
Теперь богатые взяли за правило трапезничать в своём кругу,
В собственной общей комнате или в опочивальне с камином,
Из-за того, что в холле — бедняки.
Процессу обособления содействовали перемены, произошедшие в планировке домов: когда исчез большой холл и увеличилось количество комнат, стало проще отделить челядь от хозяйской семьи; другим фактором стало появление при Тюдорах прослойки «новых богачей», не соблюдавших старых традиций. И итоге это привело к возникновению особой породы людей: тех, что предпочитают держаться особняком и с гордостью говорят: «Дом англичанина — это его крепость».
ГЛАВА 4
ЦЕРКОВЬ И РЕЛИГИЯ
Средневековье можно назвать «эпохой веры», а наше время — «эпохой вер». В Средние века на всей территории Западной Европы царила одна-единственная религия, проповедуемая католической Церковью, признанным главой которой был папа Римский. Самостоятельно размышлять над религиозными вопросами и исповедовать взгляды, отличные от позиции Церкви, не имел права никто; поступать иначе означало быть еретиком, то есть подвергать опасности своё тело в земном мире и рисковать своей душой в мире ином. Реформация[26], по существу, была движением протеста, и естественно, что различные деятели протестантской Церкви должны были начать с более или менее решительных выступлений против отдельных постулатов и образа действий католической Церкви, а затем начались яростные взаимные нападки. В итоге католическая Церковь осталась единой и неизменной, а протестантская Церковь вскоре распалась на бесчисленные секты, которые продолжают множиться и по сей день.