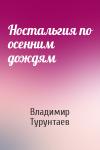Зинаида Яковлевна подбросила меня на машине до райцентра. Ей надо было туда же: на следующий день в Домбаровке должен был состояться пленум райкома партии, и она собиралась сказать с высокой трибуны свое слово по поводу «интенсивного свиноводства».
Ну и я тоже решил воспользоваться нежданно подвернувшимся случаем: напросился на беседу к первому секретарю Домбаровского райкома партии товарищу Рачкову и завел разговор на ту же «свинскую» тему. Товарищ Рачков, высокий, плечистый, с властным взглядом, сказал как отрезал:
— Нам нужно как можно больше разводить свиней, иначе не будет мяса.
— Но там, где люди издавна привычны к овцеводству…— попытался я что-то сказать, но он уже не слышал меня.
— Свиней везде можно разводить, — коротко завершил разговор товарищ Рачков.
Я понял, что передо мной каменная стена. Настроение вконец испортилось, и мне уже расхотелось ехать за вторым очерком в «Адамовский». Но все же поехал — только потому, что пообещал Авралёвой написать о ее однокашнике, и мысленно уже видел оба очерка под одной шапкой. Конечно же: «Однокашники».
Уже будучи в «Адамовском», я узнал сногсшибательную новость: на пленуме райкома КПСС товарищ Рачков был подвергнут суровой критике за серьезные недостатки в работе и освобожден от должности первого секретаря. Первым секретарем Домбаровского райкома партии пленум единодушно избрал товарища Авралёву Зинаиду Яковлевну. Маму.
Непридуманный сюжет для плохого романа. Однако мне и в голову тогда не пришло, что вся эта «свинская» история с хорошим концом была не чем иным, как одним из многих симптомов серьезной хронической болезни, которой страдало все наше государство и которая в недалеком будущем явится одной из причин развала Советского Союза. Впоследствии с симптомами этой болезни мне предстояло встречаться на каждом шагу. И чаще всего развязки оказывались далеко не с таким хорошим концом.
2. Бывший лучший, но опальный…
Путь мой пролегал от станции Весенней до города Светлого, близ которого и простирались необъятные нивы «Адамовского». Здесь была та самая настоящая, классическая советская целина. Другие масштабы и другие проблемы, нежели там, откуда я ехал. За окнами вагона всюду, сколь хватало глаз, проплывали поля, поля, поля… Справа они были еще золотисто-желтые, с прозеленью, а слева изборождены черно-бурыми полосами. Справа работали комбайны, много комбайнов, целая армия. Слева тракторы уже вспахивали зябь. А по дорогам мчались грузовые машины одна за другой, с кузовами, доверху наполненными зерном.
Полюбовавшись пейзажами, я забрался на верхнюю полку и достал из дорожного портфеля тоненькую красную книжечку карманного формата, которую мне подарил редактор орской газеты «Сельская новь» Григорий Степанович Кибиш, тот самый, кому я был обязан знакомством с Авралёвой.
«РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению весеннего сева, освоению новых земель, вспашке паров
и уходу за посевами»
— так значилось на обложке.
— Это кодекс наших хлеборобов, здесь коротко и четко изложена суть Оренбургской системы земледелия, применяемой сейчас в нашей области повсеместно. Благодаря этой системе область неуклонно наращивает производство зерна! — пояснил Григорий Степанович.
И еще сказал, что главный разработчик Оренбургской системы земледелия Ш.Ш. Хайруллин недавно был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
— Это большой ученый, его поддерживает не только наш обком, но и Центральный комитет партии в лице товарища Воронова, прежнего первого секретаря обкома, а ныне члена Президиума ЦК КПСС, — и доверительным полушепотом: — Геннадия Ивановича Воронова считают правой рукой Хрущева…