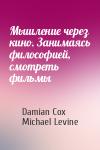Определение авторского замысла может помочь, а может и не помочь в процессе выработки философской реакции на фильм. Без большого количества подтверждающих доказательств определить авторский замысел или обосновать приписывание авторского замысла, даже в тех случаях, когда человек прав, может оказаться невозможным. В любом случае, авторское намерение не всегда, а может быть, даже очень часто, имеет особое значение - если только человек не интересуется взглядами конкретного режиссера. Например, представляется важным понять намерения очень нарочитых и провокационных режиссеров, таких как Михаэль Ханеке. Однако глубинные намерения Ханеке в таких фильмах, как "Видео Бенни" (1992), "Забавные игры" (1997; 2007), "Белая лента" (2009), не определяют и не ограничивают философский потенциал этих картин. Философский интерес к фильмам о мстителях, о которых шла речь выше, должен заключаться не в том, верили ли создатели фильмов в изображаемую ими концепцию правосудия, а в том, делают ли эти фильмы что-либо для существенного подкрепления аргументации в их пользу. Действительно, если мы придем к выводу, что нет, то более интересным вопросом для философии и кино становится вопрос о рецепции фильмов. Как зрители относятся к когнитивному воздействию на их инстинкты мести? Почему они получают такое удовлетворение (в каком-то смысле - в каком?) от таких фильмов?
Ливингстон (2008: 4) отмечает, что "Вартенберг мудро признает, что сказать, что фильм "занимается философией", - это лишь "сокращенное выражение для утверждения, что создатели фильма - это те, кто действительно занимается философией в фильме/на фильме/через фильм". Если для того, чтобы делать что-либо вообще, необходима агентность, а фильм не является агентом, то, конечно, фильм может "заниматься философией" не больше, чем завязывать шнурки. Высказывание Ливингстона может показаться очевидно верным, но на самом деле оно вовсе не очевидно. Существует естественный смысл того, что фильмы, как и произведения художественной литературы, могут иметь приписываемое им чувство агентности. Фильмы могут делать что-то, потому что они могут оказывать значимое воздействие, выходящее далеко за рамки намерений их создателей. Подобно развитию персонажей в художественной литературе, хотя, возможно, и в еще большей степени, фильм может представлять нюансы и непредвиденные последствия, которые могут способствовать развитию философского аргумента или донести мысль, независимо от намерений или предвидения создателей фильма. Частично задача редактора заключается в том, чтобы выделить или подчеркнуть присутствующий или зарождающийся в фильме нарратив, развитие сюжета и смысл. Но фильм может быть больше или меньше, чем сумма его частей, с точки зрения его общей эстетической ценности и смысла - предполагаемого или нет. Часто можно отличить авторский замысел от того, что проявляется в киноповествовании, визуальном эффекте или исполнении.
Как и романы, фильмы живут своей жизнью и имеют свои смыслы, которые меняются со временем и в определенной степени зависят от конкретной аудитории. Из этих соображений следует, что говорить о том, что фильмы "занимаются философией", - это не просто способ изложения. Хорошие фильмы часто превосходят даже совокупность творческих намерений тех, кто их создает. Кроме того, в теории кино принято ставить под сомнение понятие "автор". Фильмы выражают (или могут выражать) личные идеи режиссера, как утверждает Трюффо (1954), придумавший фразу la politique des auteurs. Однако теоретики кино отмечают, что, в отличие от романа, фильм - это совместный проект, продукт деятельности не только сценариста/режиссера, но и многих других людей. В той мере, в какой фильм воплощает совместную деятельность, он также должен рассматриваться как нечто большее, чем сумма его частей; где результаты, включая смыслы, не могут быть полностью приписаны ни режиссеру, ни сценаристу, ни даже совокупности всех тех, кто участвовал в создании фильма.
Заключение
Вернемся к рассказу Вартенберга о фильме Гондри "Вечное сияние чистого разума". Мы хотим подхватить высказанную ранее мысль о том, что для того, чтобы оценить и понять связь кино и философии, необходимо увидеть философское превосходство фильмов. По крайней мере, в некоторой степени и в некоторых отношениях философия должна смотреть на кино, а не наоборот.
Вартенберг (2007: 91) обращает внимание на "различие между интерпретацией произведений искусства, ориентированной на создателя, и интерпретацией, ориентированной на зрителя".
[Ориентированные на создателя... представляют интерпретации, которые мог иметь в виду создатель произведения. Но ... это не означает, что создатель должен быть непосредственно знаком с той философской позицией, которая в ориентированной на создателя интерпретации ... [представлена] в качестве фокуса произведения, а только то, что должно быть правдоподобно, что он может реагировать на положения или идеи, содержащиеся в этом произведении. Хотя философские тексты являются источниками многих идей, теорий и положений, они обретают собственную жизнь в культуре, и все, что необходимо для того, чтобы интерпретация, ориентированная на творца, была приемлемой в этом отношении, - это то, что творец мог быть знаком с философскими идеями и т.д., например, в силу их общей распространенности в культуре. Утилитаризм - философская теория, получившая широкое признание в американской культуре в целом. Лозунг "наибольшее благо для наибольшего числа" известен гораздо большему числу людей, чем те, кто читал тексты, из которых он исходит. Поэтому мне кажется правдоподобным, что современный фильм может быть ориентирован именно на такую точку зрения.
В подтверждение своей точки зрения Вартенберг (2007: 92) указывает на "явное обращение к Ницше в фильме", а также на то, что "одной из мишеней философской критики Ницше является утилитаризм".
Не нужно отказываться от того, что Вартенберг считает этот фильм философским, чтобы предположить, что форма защиты фильма как философии имеет любопытную предпосылку. Если мы не увидим, что это за предпосылка, мы, скорее всего, не поймем, как и почему кино и философия часто тесно связаны друг с другом. Вартенберг успешно доказывает, что фильмы могут и часто представляют, иллюстрируют или аргументируют философские положения и поднимают философские вопросы; мы же предполагаем - в том, что мы назвали умеренным тезисом, - что фильмы часто делают это гораздо лучше, чем письменные или устные философские тексты. Возможно, ключевой вопрос здесь заключается не в том, могут ли фильмы делать это, а в том, как они не могут этого делать? Вартенберг (2007: 93) говорит: "Мы видели, что один фильм "Вечное сияние бесцветного разума" представляет контрпример утилитаризму и, таким образом, действительно занимается философией... [Как ни странно это может показаться и киноведам, и философам, художественные фильмы могут представлять аргументы через свои повествования, потому что они показывают мыслительные эксперименты, которые играют решающую роль в обеспечении контрпримеров к философским тезисам". Это выражение того, что мы называем "скромным тезисом". Нам кажется, что такая скромная позиция может показаться контринтуитивной только в том случае, если мы погрязли в неправдоподобной идеологии, касающейся кино, философии или того и другого. В данном случае речь идет не столько о Вартенберге, сколько о тех философских возражениях, которые он имеет в виду. Похоже, что они имеют в виду удивительно поверхностную концепцию философии и происхождения философствования.
При обсуждении этого вопроса Вартенберг исходит из двух предпосылок. Во-первых, он предполагает примат философии. Если фильм экранизирует философский эксперимент, то он делает это, противопоставляя его известной философской позиции. Философская позиция стоит на первом месте, а фильм занимается философией, каким-то образом реагируя на нее. (Это очень часто так, но всегда ли так? И нужно ли это делать?) Во-вторых, он, по-видимому, чрезмерно акцентирует внимание на интеллектуальном содержании киноаргументов, а не на том, как эти аргументы упакованы и поданы в фильме. Важной составляющей того, как кино делает философию, является то, что оно способно передавать аргументы аффективным способом, т.е. таким, который вызывает у нас не только интеллектуальный, но и эмоциональный резонанс. Эмоции, вызванные фильмом, могут сфокусировать внимание и позволить "увидеть", рассмотреть или оценить те аспекты аргументации, которые в противном случае могли бы остаться за кадром. За исключением случаев эмпирических фактов (например, "я вижу, что кошка лежит на коврике"), вера чаще всего является функцией желания и эмоций, а также разума и доказательств. Иногда философская мысль должна обратить внимание на эту аффективную составляющую хорошей философии.
Рассмотрим, о каких философиях, по мнению Вартенберга, идет речь в фильме "Вечное сияние бесцветного разума". За исключением ярых утилитаристов и деонтологов, единственным фактом, который, по-видимому, сделал дискуссию между этими двумя нормативными этическими теориями (или высшими нормативными принципами) неразрешимой, является то, что ни одна из этих теорий сама по себе не может удовлетворить обычную интуицию относительно того, что является правильным во всех случаях морали. Представьте себе, что Милль и Бентам вместе с Кантом идут на утренний сеанс в кино. Милль и Бентам выбирают фильм "Вечное сияние бесцветного разума". Кант направляется в кинотеатр № 2, чтобы посмотреть повторный показ "Дневника Анны Франк". После окончания фильма они встречаются в фойе. Кант говорит: "Ну, насчет лжи я не совсем верно выразился. Те, кто защищал Анну и ее семью, правильно сделали, что солгали, когда их спросили об их местонахождении. Я должен переписать свои "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" и "Kritik der praktischen Vernunft". Милль и Бентам отвечают: "Нет, нет, на самом деле мы думаем, что вы в чем-то правы. Именно утилитаризм нуждается в серьезной модификации". По мнению Вартенберга, трудно представить, чтобы кто-либо - не говоря уже о Канте, Милле или Бентаме - изменил свое мнение в результате интеллектуальной регистрации киношного контрпримера. Контрпримеры будут уточняться в контексте предшествующих интеллектуальных обязательств. Однако некоторые фильмы для некоторых людей в определенное время способны вызвать такую внимательность и эмоциональную проницательность, которая может подорвать прежние обязательства и предположения, даже если они считались интеллектуально и рационально обоснованными. Фильмы могут навязывать нам контрпримеры таким образом, что мы можем лучше понять и оценить их силу и ценность как контрпримеров, что не означает отрицания того, что они могут быть отвергнуты или что иногда они должны быть отвергнуты.
Предположение Вартенберга о примате философии над кино может быть основано на ошибочном представлении о генезисе философских проблем. Он утверждает (2007: 91), что "хотя философские тексты являются истоками многих идей, теорий и положений, они обретают собственную жизнь в культуре". Однако не всегда и даже не очень часто источником идей являются философские тексты, а культура. Именно в философских текстах, а не в культуре, "многие идеи, теории и положения" обретают свою жизнь. За пределами узкой сферы профессиональной философии философия не является собственным источником. Философский поиск порождается устойчивым и целенаправленным чувством удивления, вовлеченности и недоумения по поводу прожитой жизни - как своей собственной, так и всех остальных.